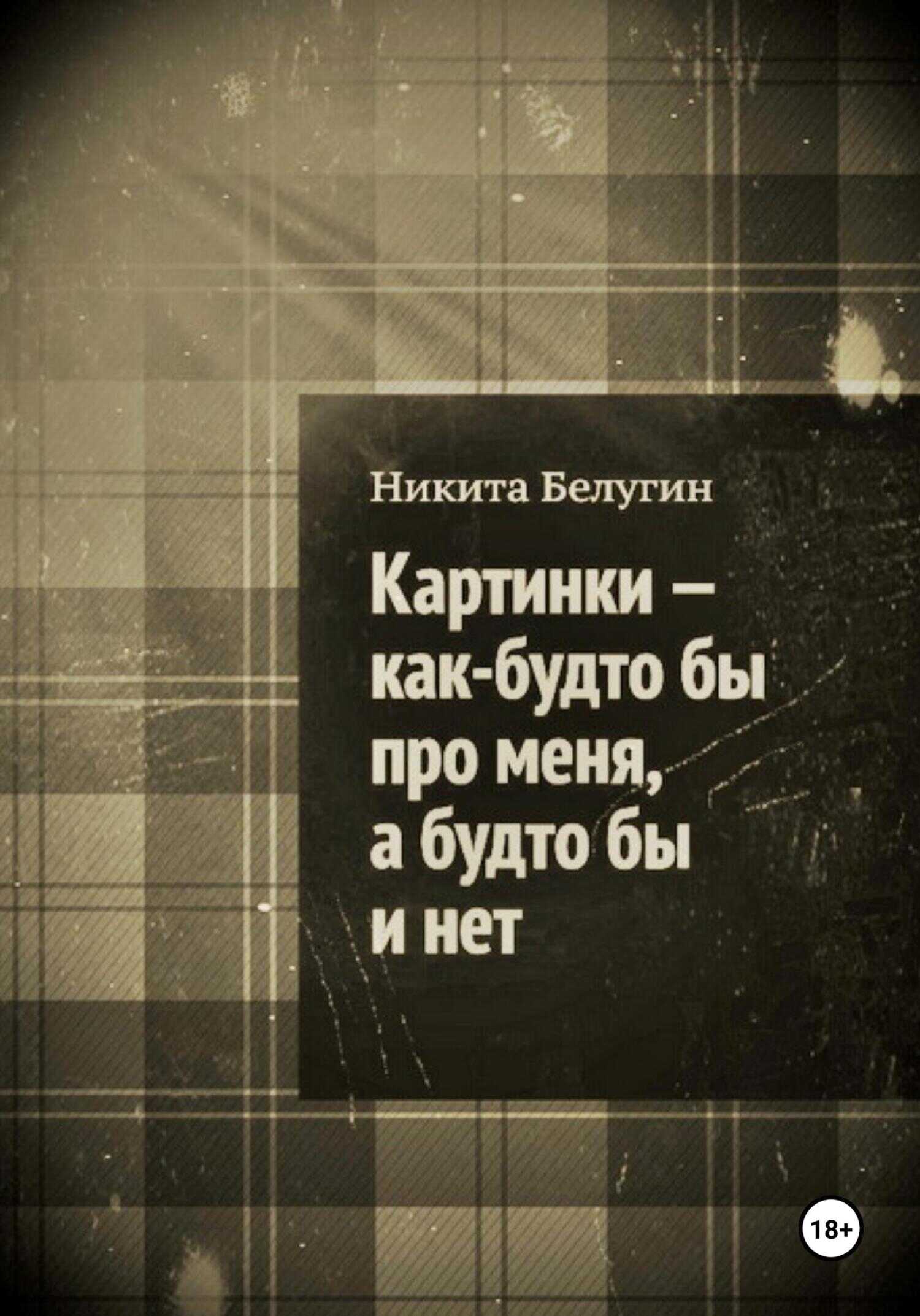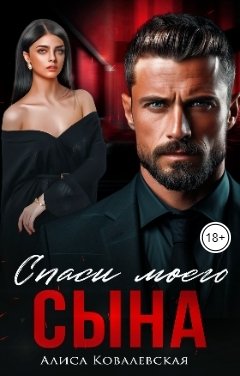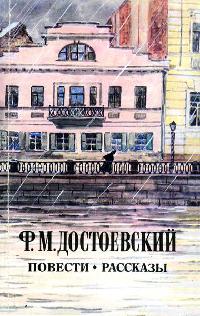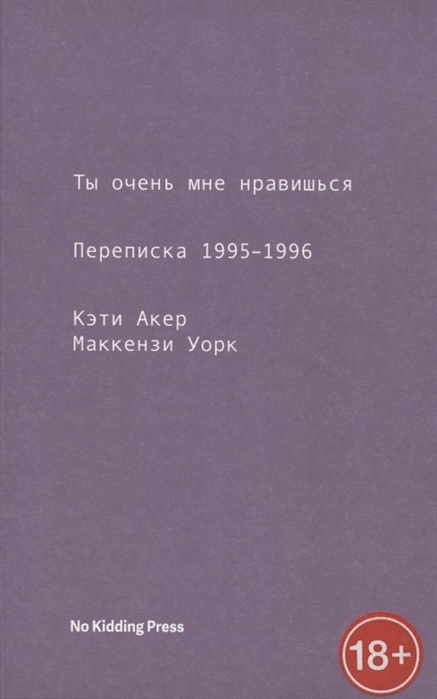актуальность этого текста особенно возросла именно сейчас. Современная жизнь складывается так, что страх привязанности все чаще одерживает верх над страхом одиночества, и все больше людей делают тот же выбор, что и Хозяин из романа Дэшли — выбор в пользу тишины. Я не буду пускаться в надоевшие всем рассуждения об «атомизации общества» и выносить приговоры — мол, то хорошо, а это плохо. Я хочу только сказать, что современному человеку «Теорема тишины», может быть, будет более понятна, чем многим современникам Дэшли. И не исключено, что грусть, пронизывающая этот роман, сегодня окажется созвучна очень многим — а значит, это уже не совсем одиночество.
В сверхотвлеченном пространстве романа обращают на себя внимание то и дело мелькающие отсылки к русской жизни — и в тексте ирландского писателя это не может не удивлять. То на противоположном берегу обнаруживается совершенно типичный подмосковный «дачный поселок», то Профессор, сидя, на скамеечке, пьет свою любимую ряженку. Все это объяснимо, если знать, что в 70-е годы Дэшли провел в России несколько лет. Однажды в литературной компании он познакомился с советской переводчицей-синхронисткой Людмилой Зайченко — у них начался роман, и Дэшли последовал за ней в Россию. На столь узнаваемых в «Теореме тишины» подмосковных дачах он провел много времени и очень полюбил этот загородный русский быт — с соленьями, сушеными яблока-ми, калошами, сваленными на крыльце. Он, как поэт, находил во всем этом особенную прелесть — и потом перенес ее в свой роман именно для того, чтобы дополнительно отдалить его от привычного, реалистического мира. То, что для нас — знакомое и обыденное, для него стало своего рода сказочными декорациями, которые позволили ему сделать пространство «Теоремы тишины» подчеркнуто условным, постановочным. Стоит ли говорить, что в связи с этим русский читатель роман прочтет совершенно не так, как всякий другой: «постановочность», быть может, он не особенно уловит, — зато атмосферу прочувствует точнее, чем мог бы желать даже сам автор.
Вот таким странным путем — спустя 35 лет, волей обстоятельств найденная в старой подшивке, — из далекой Ирландии возвращается в Россию во многом ею и вдохновленная «Теорема тишины». И мне кажется, что в этот раз нам стоит к этой тишине — прислушаться.
Выступление Даши Сиротинской на переводческом фестивале «Игры с огнем» в Переделкине
Многие из вас наверняка следят за журналом «Иностранная литература», а потому знают, что в 6-м номере за 2023 год был опубликован мой перевод романа ирландского поэта и писателя Александра Дэшли «Теорема тишины». Знают они и о том, что произведение это по современным меркам можно назвать достаточно странным: так-то на первый взгляд оно — «ни о чем». Добрую его часть составляют так называемые «описания природы», от которых большинство читателей еще за школьной партой натерпелись под завязку; любовные линии прослеживаются — или даже скорее просвечивают — еле-еле, сам сюжет в сущности фантастический, — но не настолько, чтобы после прочтения нам захотелось нацепить доспехи и плащ или эльфийские уши из полупрозрачной резины и идти сражаться за тот или иной придуманный мир. Такая неопределенность, по всей видимости, вызвала раздражение у многих читателей, и вскорости после публикации на электронный адрес редакции начали приходить Таинственные Письма.
После первого из них у меня были все шансы угодить в сумасшедший дом. Дело в том, что в редакцию, желая выйти на мой след, писал не кто иной, как сам Александр Дэшли, который, согласно моей библиографической справке, скончался аж в 1996 году. Мистер Дэшли пребывает уже, как бы это выразиться, на десятом десятке, но не утратил достаточно ядовитого чувства юмора, ясности мысли и склонности обзаводиться русскими друзьями. Эти-то русские друзья и сделали ему подстрочник, и мистер Дэшли решительно обвинил меня в литературной мистификации: мол, никакой «Теоремы тишины» он не писал, и в мыслях не было. Впрочем, насколько я поняла, гораздо сильнее его задело то, что я недостаточно восторженно отозвалась о его юношеских стихах.
ПИСЬМО № 1
Александр Л. Дэшли — в редакцию журнала «Иностранная литература»
Уважаемые господа,
Возраст у меня (знаю, вы думаете, будто меня и в живых-то нет, так что вынужден вас огорчить) уже преклонный и пользоваться электронной почтой мне не доводилось достаточно давно, — но ради удовольствия пообщаться с вами я все ж таки вспомнил, как это делается. Вынужден начать свое письмо с клише, которое древним грекам — и тем успело приесться: та-дам, меня зовут Александр Дэшли и я, спасибо за беспокойство, прекрасно себя чувствую в свои 90 с лишним лет; и совершенно напрасно вы меня похоронили аж в 96-м году. Да, старость не радость, но все-таки я рад, что эти тридцать лет провел, гуляя по травке, — а не в качестве самой этой травки; травку тем более, стоит ей разойтись как следует, так и норовят окоротить. Месяца два назад один из моих внучатых племянников (а имя им — легион, и почти все народились как раз за эти самые тридцать лет, которые вы мне с такой щедростью пообстригли) огорошил меня радостной новостью: оказывается, русская переводчица Даша Сиротинская опубликовала в вашем журнале перевод моего романа «Теорема тишины» — совершенно замечательного и невероятно поэтического, как уже успели отметить русские критики. Лестно, лестно! Передавайте русским критикам мои благодарности!
Журнал немедленно выписали; пригласили приятеля, эмигранта из России внеочередной волны; запаслись соответствующими напитками. В один прекрасный день журнал является; даже без знания языка я вижу, что мое имя стоит на обложке, с моего романа начинается номер, в справке об авторе с достаточно причудливой выборочностью приведена моя библиография. Приятель-эмигрант с листа переводит мне увлекательнейшее повествование мисс Сиротинской о моей жизни, которая в ее изложении оказывается до того пустой, бесцветной и бессмысленной, что я едва удерживаюсь от того, чтобы немедленно отправиться в сад и пустить себе пулю в лоб; мисс же Сиротинская справляется с этой проблемой не в пример изобретательнее, широким жестом всучивая мне запретную «русскую страсть» и отфутболивая в Россию — правильно, ведь дома, в Ирландии, мне заняться было ровным счетом нечем; куда более пристало писателю шорохаться по пригородам Москвы и любоваться на банки с соленьями и грязные сапоги. Очарованный, я открываю первую страницу и вижу на ней портрет какого-то еврея — безусловно, очень обаятельного, но, к моему большому сожалению, не имеющего со мной ни малейшего сходства. Вся моя жизнь могла бы сложиться иначе, будь у меня такое вот прекрасное одухотворенное лицо, а не типичная