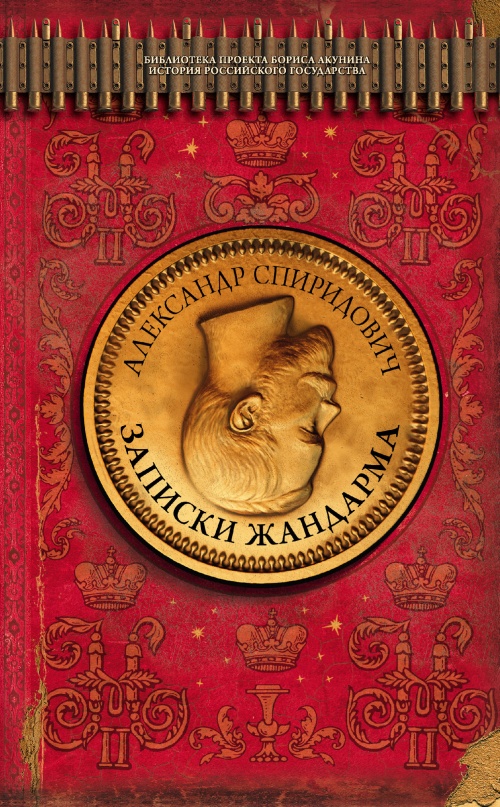Ознакомительная версия. Доступно 38 страниц из 190
Я сталкивался с подобными настроениями довольно часто.
И все же нам удалась нормализация отношений, результатом чего стало создание двусторонних комиссий историков с Литвой и Латвией. Я уже описал, как развивались наши отношения и какие трудности их сопровождали. Они постоянно зависели от общего состояния межгосударственных отношений, которые, как известно, оставляют желать лучшего.
Перед нами встала неотложная задача установления новых взаимоотношений с историками стран СНГ, руководителями институтов истории. Эти директора частично были теми же, кто работал в составе Советского Союза, но были и вновь назначенные. Практически все директора соглашались создать Ассоциацию директоров для обсуждения общих проблем, для обмена информацией о ведущихся научных исследованиях и путей и форм сотрудничества. Они объявили о своем желании совместно сотрудничать с нашим Институтом всеобщей истории и избрали меня председателем Ассоциации.
Выбор ими в качестве партнера Института всеобщей истории не был только ответом на нашу инициативу. Я понимал, что они не хотят рассматривать себя как часть России (хотя и в прошлом). Им больше импонировало ощущать себя в качестве субъектов мировой истории. Это было понятно, и я всячески старался подчеркивать их суверенность и самостоятельность. Я думаю, что все это время мы сотрудничали весьма конструктивно.
Исторические институции в странах СНГ развивались по-разному. Они зависели от общей политической ситуации в этих государствах. В некоторых Академий наук просто не существовало, или они потеряли принадлежавшие им институты, как, например, в Казахстане или в Грузии. Длительное время возникали трудности с участием в заседаниях Ассоциации представителей Узбекистана и Азербайджана. После 2014 года в заседании не участвовал директор института или его представитель из Украины. Еще раньше мы перестали видеть на наших встречах делегата из Грузии.
Но в целом Ассоциация работала без перерывов. На заседаниях Ассоциации участвовали историки из Литвы и Эстонии. В качестве наблюдателей продолжают участвовать представители Украины и Грузии. Я полагаю, что Ассоциация служит хорошей площадкой для сотрудничества историков на постсоветском пространстве. Мы обсуждали самые различные, весьма сложные проблемы – такие, например, как условия и последствия жизни республик и их народов в составе России, а затем и Советского Союза.
В наше время такие площадки особенно необходимы, учитывая стремление определенных кругов пересмотреть историю, и в первую очередь на примере истории Второй мировой и Великой Отечественной войны. Осознавая это, мы пришли к решению расширить состав Ассоциации, включив в нее представителей архивных учреждений. Полагаю, что в обновленном составе Ассоциация будет вносить свой вклад в сотрудничество историков и архивистов стран на постсоветском пространстве.
Во всяком случае, я испытываю удовлетворение от проделанной мной работы за последние 30 лет в этом направлении.
Архив Коминтерна
Упомяну один крупный международный проект, в котором мне тоже довелось принять участие. Речь идет о программе компьютеризации архива Коминтерна. Этот архив, насчитывающий много тысяч дел и страниц, находится в Российском архиве социально-политической истории (бывший архив ЦK КПСС).
В нашем Институте всеобщей истории в 1990-х годах мы начали готовить многотомную публикацию документов из архива Коминтерна. В течение нескольких лет мои коллеги подготовили и издали тома, посвященные таким темам, как Коминтерн и мировая революция, Коминтерн и строительство социализма в одной стране, а также документы по странам – Коминтерн и Франция, Коминтерн и Латинская Америка, Коминтерн и Польша, Коминтерн и Африка и так далее.
Но параллельно с этим наши коллеги за рубежом и Росархив выдвинули идею оцифровать и сделать доступным этот один из крупнейших архивов в электронном варианте.
Была создана международная редколлегия, которую мне поручили возглавлять. В состав редколлегии вошли руководители национальных архивов Германии, Франции, Швейцарии, Италии, затем к ним присоединились и представители США. Показателем интереса к этому проекту может служить то, что страны-участники вносили в образованный специально фонд по 200 тыс. долларов.
Это была очень интересная и весьма продуктивная работа. В это время я возглавлял Российское общество историков-архивистов, и мне было важно сотрудничать и взаимодействовать с архивными учреждениями ведущих стран Европы и США. Мы собирались почти каждый год, в Москве или в Кобленце (ФРГ), где находится государственный германский архив, и однажды в Берне (Швейцария).
Конечно, у моих зарубежных коллег возникали вопросы, порой весьма острые, по поводу открытия и рассекречивания огромного массива документов из Российского архива. К чести Росархива, я должен сказать, что его руководители (В.П. Козлов и В.П. Тарасов) приложили немало усилий, чтобы сделать доступным максимальное число документов.
В итоге работы за несколько лет нам удалось реализовать проект. Для меня это был очень важный показатель нового этапа открытости и доступности российских архивов. Кроме того, у меня вызывало большое удовлетворение то доверие и уважение, с которым ко мне относились мои зарубежные коллеги-архивисты.
Немцы Х. Вебер и К. Ольденхаген и глава архива Швейцарии были как бы моторами проекта. В итоге теперь исследователи в разных странах мира имеют доступ к одному из важных архивов, который отражает деятельность крупной международной организации ХX столетия, которой был Коминтерн.
* * *
Российские историки прошли большой и разноплановый путь международного сотрудничества – от сложных взаимоотношений в период «холодной войны», когда общая конфронтация между Востоком и Западом оказывала влияние на все сферы жизни и в том числе на контакты в области науки, и когда она сменилась периодом разрядки и поисками новых форм сотрудничества, до новых перспектив, созданных окончанием холодной войны – в течение конца 1980-х и после 1990-х годов.
Однако надежды на широкое сотрудничество и взаимодействие сменились с 2010 года новым обострением отношений между Россией, США и странами Европейского Союза.
Появились санкции, ограничения связей и контактов. И хотя в целом сферы науки, культуры, искусства и образования оказались сильнее, чем санкции и обострения, и основные линии и формы сотрудничества сохранились, все же общее обострение сказывалось и на области исторической науки.
Моя жизнь и деятельность, мои международные связи охватывали все эти периоды. Естественно, за все годы, начиная с 1960-х и до 2020-х годов, я стремился отстаивать ценности, принципы и исторический опыт и традиции нашей страны.
В моей памяти сохраняются многочисленные примеры острых и напряженных дискуссий с историками разных стран по самым различным вопросам исторического прошлого нашей страны и мира.
Но при этом я постоянно исходил из той общей позиции, что Россия – часть мирового сообщества, а советская и тем более российская историческая наука органически включена в развитие мировой исторической науки, преодолевая изоляционизм и противопоставление нашей науки общим тенденциям развития мировой историографии. Это не снимало вопроса о национальных особенностях России, ее истории и, соответственно, о наших исторических представлениях, которые я и мои коллеги стремились отстаивать и обосновывать.
Я постоянно был привержен диалогу с
Ознакомительная версия. Доступно 38 страниц из 190