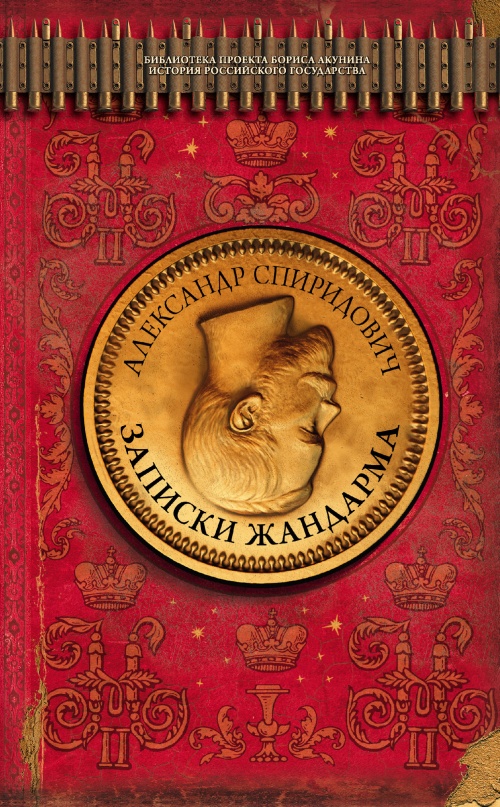Ознакомительная версия. Доступно 38 страниц из 190
нашими зарубежными коллегами, искал общие подходы или компромиссы, или обосновывал им, что мы должны иметь консенсус в том, что нужно иметь и признавать наличие разных точек зрения и методов познания истории.
Идея поисков конструктивных подходов и решений сопровождала мои многочисленные международные связи и контакты. При этом я всегда придавал большое значение личным контактам с историками разных стран, различных взглядов и позиций.
Я всегда считал, что такой метод важен и полезен для российской исторической науки, он повышает престиж, признание и уважение к нашей науке и к нашей стране в целом.
Разумеется, я и мои коллеги всегда отвергали всякие попытки исказить историю нашей страны и мира, оказывать давление и подвергать дискриминации наших ученых.
Сейчас в мировой науке, в том числе и в исторической, идет смена кадров, приходят молодые люди с новым менталитетом, с новыми подходами к изучению истории. Такая смена происходит и в нашей стране. В этой ситуации мне кажется важным знать и учитывать опыт нашего поколения. Именно это побудило меня рассказать о международных связях историков нашей страны, начиная с 60-х годов ХХ века и до наших дней.
Общественная деятельность
Значительное место в моей жизни занимала так называемая «общественная деятельность».
Я включаю в это понятие два направления. Одно было связано с моим участием в различных мероприятиях, проводимых организациями в сфере международных отношений. В советское время, несмотря на «холодную войну», таких организаций было значительное количество. Можно назвать Советский комитет защиты мира (СКЗМ), Советский комитет за европейскую безопасность и сотрудничество, Пагуошский комитет ученых, Советский комитет солидарности стран Азии и Африки (СКССАА) и многие другие.
Конечно, они ориентировались в своих контактах прежде всего на «прогрессивные» круги в зарубежных странах. Сегодня мы отмечаем черты сектантства в их работе. Но одновременно, по моему мнению, их деятельность была чрезвычайно полезной. Они содействовали налаживанию связей советской общественности с Западом. Сегодня мы бы назвали эти связи контактами гражданского общества СССР с другими странами.
Что касается меня, то я довольно активно сотрудничал с двумя организациями – Комитетом молодежных организаций и Комитетом за европейскую безопасность и сотрудничество.Именно по линии этих организаций я довольно часто ездил в страны Европы и в США (о чем я подробно пишу в других разделах).
Я видел определенную эволюцию в действиях этих советских организаций. Отчасти это было связано с новыми веяниями в политике международного Отдела ЦК КПСС. Глава этого Отдела Б.Н. Пономарев предоставил определенную свободу своим заместителям В.В. Загладину, А.С. Черняеву, Г.Х. Шахназарову и другим, которые явно стремились преодолеть сектантство, расширяя сферу контактов советской общественности. Именно с их подачи я ездил в Бельгию для контактов с молодежной частью бельгийской социалистической партии, отнюдь не разделявшей идеологические ценности и приоритеты советской системы.Помимо социал-демократии международный Отдел ЦК КПСС поддерживал связи с консервативными кругами в Европе и в США.
Участвуя в многочисленных встречах в нашей стране и за рубежом, я мог видеть, как мои советские коллеги и представители других стран искали линии согласия, компромиссные формулировки. Конечно, советские представители действовали в русле советских внешнеполитических интересов, но при этом они избегали конфронтационных взаимных обвинений. Главный пункт согласия состоял в том, что угроза ядерной войны должна служить объединяющим фактором для людей различных взглядов и направлений.
Столкновение ценностных и идеологических точек зрения очень часто словно выводилось за скобки.
Очень часто участники контактов делали «дежурные заявления», обозначали свои идеологические позиции, но одновременно искали пункты согласия и возможных компромиссов. Говоря о влиянии Международного отдела, следует подчеркнуть, что другие Отделы ЦК (идеологический и науки) отнюдь не симпатизировали линии своих коллег и ставили на первый план необходимость конфронтации и идеологического отпора.
Мне кажется, что в начале 90-х годов, критикуя деятельность упомянутых советских общественных организаций, мы вычеркнули ту полезную работу, которую они выполняли, содействуя снижению накала противостояния в годы холодной войны.
Представляется, что в современном мире на новом витке противостояния России с Европой и с США полезно и важно использовать опыт и периода холодной войны. Сегодня, например, идея общей опасности от возможности столкновения ядерных держав словно ушла в сторону. А общая идея мира в условиях, когда в России давно изменились оценки «пацифизма», могла бы сегодня быть дополнительным моментом сближения гражданских обществ России и других стран.
Возвращаясь к теме упомянутых общественных организациях, теперь я ясно понимаю, что приобрел большой опыт того, что теперь называется «научной дипломатией». Я убеждался, что Запад, и в особенности гражданское общество, – это не монолит, а разные политические силы, группы и элиты, которые имеют порой весьма существенные приоритеты и позиции, и поиск согласованных решений вполне возможен.
В то же время было очевидным то огромное, иногда определяющее влияние на западное общество, которое имели правящие элиты и средства информации стран Запада.Было также явным и то, что правила игры периода холодной войны предполагали сочетание политики сдерживания и сотрудничества.
Активное участие в деятельности упомянутых общественных организаций позволило мне быть в курсе многих перипетий в международной политической сфере советского руководства.
Концентрация внимания, прежде всего, на моей международной деятельности объясняется несколькими причинами.
Во-первых, международные контакты занимали значительное, иногда даже преобладающее место в моей жизни, в профессиональной и в общественной деятельности. Это было связано и с моими функциями в Национальном комитете историков, и с работой в Институте всеобщей истории и с сотрудничеством со многими советскими, а затем и с российскими общественными организациями.
Во-вторых, мне кажется, что мой опыт и мое обращение к прошлой деятельности на международной арене весьма актуальны в современных условиях.
В сущности, вся моя международная деятельность проходила в период холодной войны и глобального противостояния.Оно имело геополитические и социально-ценностные основы. С нашими западными партнерами нас, как правило, разделяли различные подходы к объяснению и восприятию истории и представления о месте и роли России на протяжении многовековой истории человечества.
Но при всей остроте мы видели, что наши «оппоненты» и зарубежные дискутанты не представляли собой единую и монолитную команду. Иностранные историки (особенно в странах Европы и в США) отличались друг от друга; одни были крайне агрессивны, не воспринимали каких-либо возражений и контраргументов. Для них Россия (читай, Советский Союз) и марксизм как теоретическая основа и методология были изначально неприемлемы.
Другие отличались большей терпимостью и готовностью выслушивать и иногда даже воспринимать другую точку зрения. При этом накал дискуссионных дебатов очень подогревался средства информации, и, разумеется, общей международной напряженностью.
Следует подчеркнуть, что при всех различиях и взаимных обвинениях споры и контакты (и на мировых конгрессах, и на двусторонних встречах) проходили в форме диалога и сопоставления
Ознакомительная версия. Доступно 38 страниц из 190