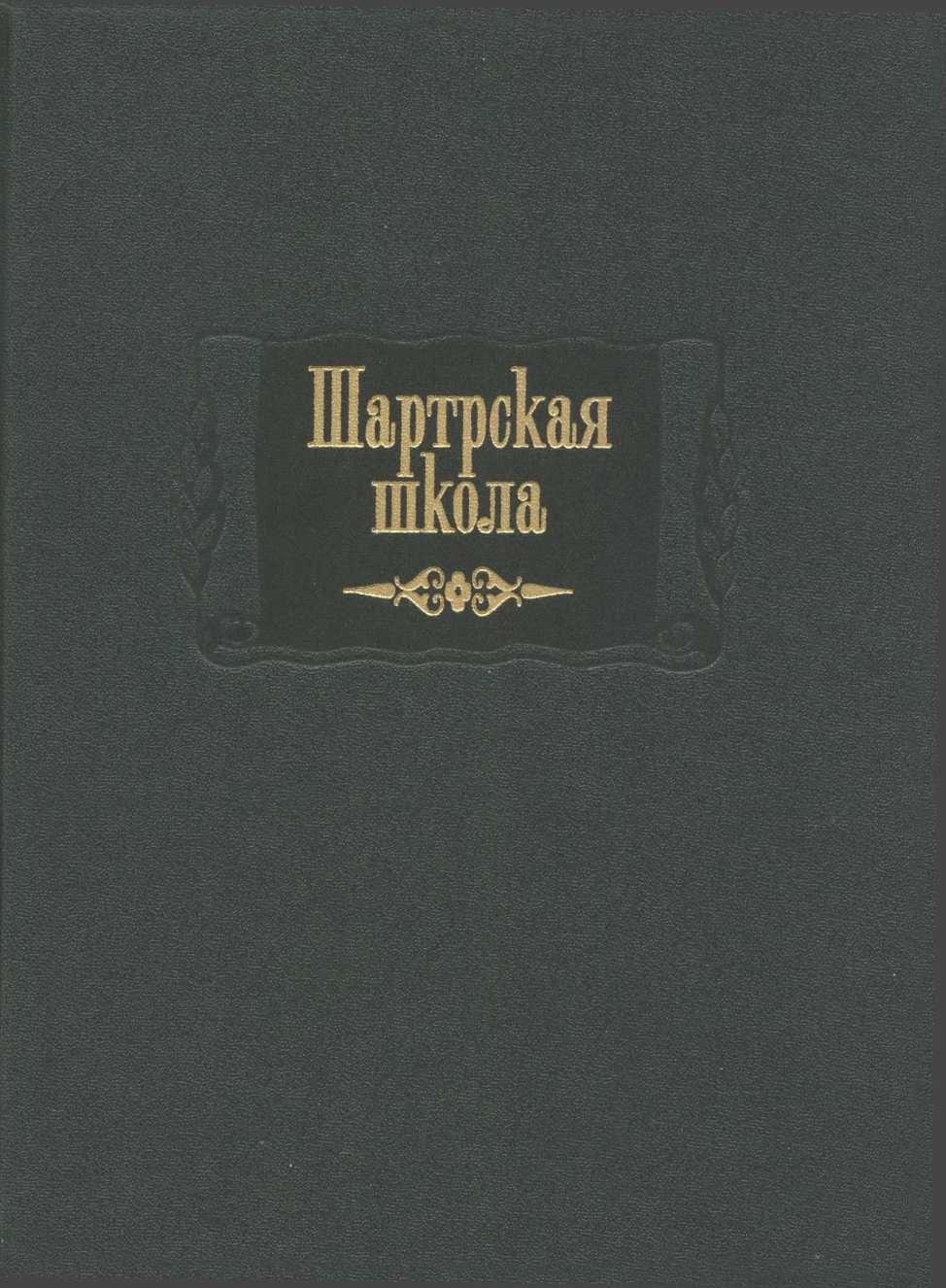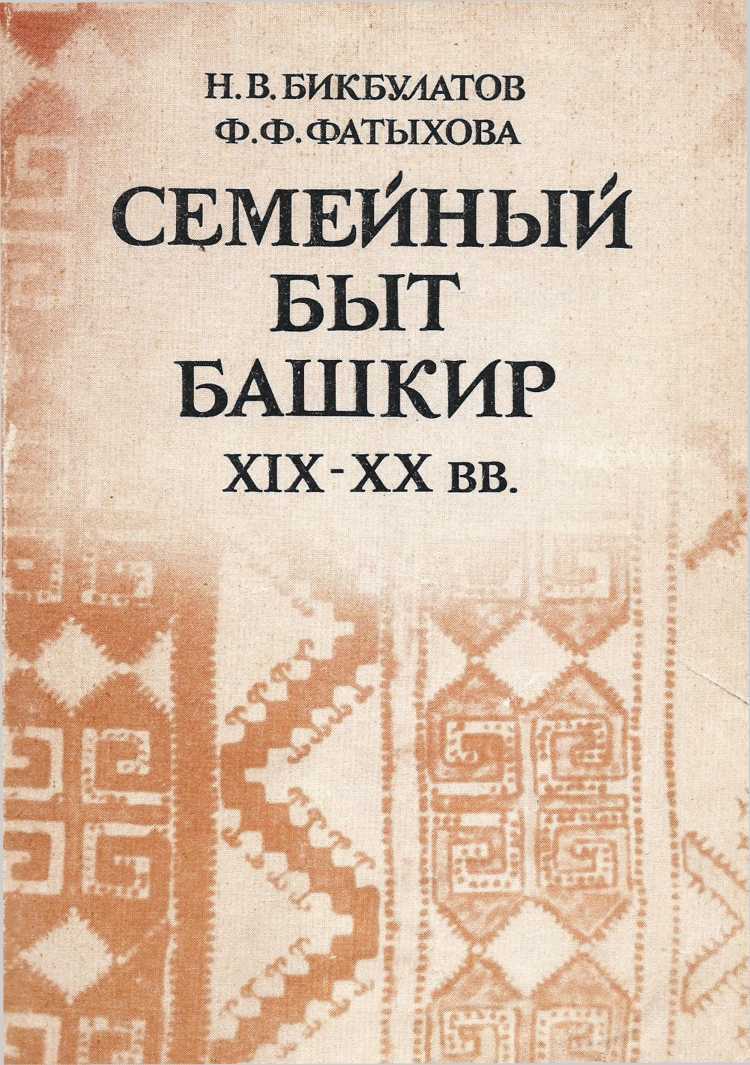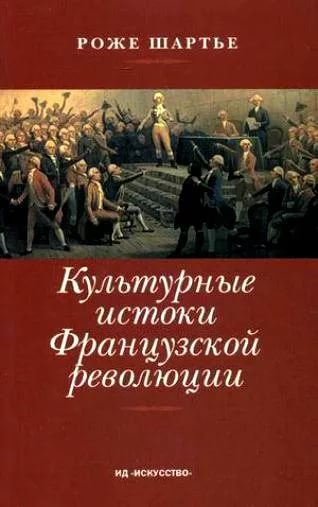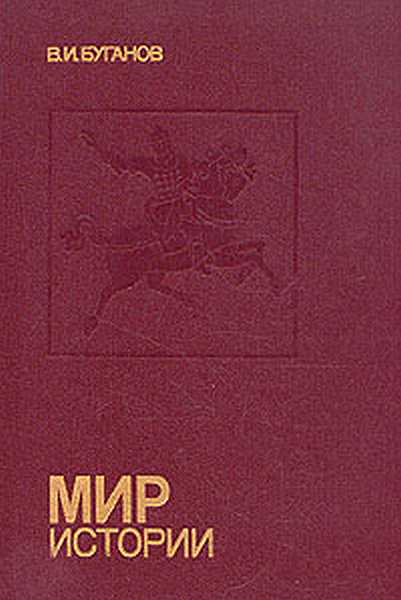миры беллетристических произведений[34] и социальных теорий. Беллетристика особенно важна тем, что из нее черпались образы и понятия дискурса гласного суда. Журналы, газеты, юридические сочинения, романы, судебная хроника и некоторые архивные материалы о том, что намеренно скрывалось от публики, – вот основные источники этой книги. Также в ней используются свидетельства современников личного происхождения: дневники, мемуары, переписка.
Основное место действия изучаемых событий – Санкт-Петербург. Это связано с тем, что радикализм Судебной реформы нервировал и самих ее разработчиков, поэтому они предполагали опереться на самые подготовленные кадры и «развитую» столичную публику. Новые окружные суды с просторными залами для публики и подобием сцены для состязания обвинителя и защитника были открыты вначале именно в столицах – Петербурге и Москве. В представлении реформаторов, наиболее образованная среда столиц должна была задать правильный тон в грядущем соединении суда государственного и нравственного. Петербург должен был стать основной площадкой этической трансформации как центр развития русского печатного слова, литературы и публицистики, юридических и государственных знаний, искусств и развлечений[35].
Именно в Петербурге, быстро менявшемся под влиянием глобальных капиталистических и прогрессивистских процессов, современность обрушивалась на обывателей во всем своем неприглядном аморальном, преступном обличье. Порочный Петербург сулил небывалые возможности и даже стал в 1860–1870-х годах основой для нового нарицательного слова «питерщик», которым называли вчерашних крестьян, не всегда законно разбогатевших в столице. Петербург стал центром осмысления преступления и наказания, и здесь же возник вопрос о том, в какой степени проблемы правды, суда, ответственности действительно важны. Не надуманы ли они под влиянием западных образцов литературных или управленческих фантазий?
Действительно, концентрация власти, богатства и безумия в вознесшейся из болот усилием самодержавной воли столице способствовала тому, что разные причуды и воображаемые миры здесь могли представляться реальностью. Чужеродность и надуманность петербургских фантазий о преступлениях и правосудии не раз разоблачали современники. В 1864 году, когда готовились к изданию Судебные уставы, огромный ажиотаж у публики вызвали «Петербургские трущобы» Всеволода Крестовского. Их автор в многочисленных подробностях описывал преступления петербургской жизни, предпосылая своему труду просветительский эпиграф:
Не тот циник, который указывает на язвы, грызущие общество; но тот циник, который, замечая эти язвы, часто даже прикасаясь к ним, остается хладнокровным их зрителем[36].
Критика срывала с Крестовского личину просветительской повестки и осуждала его за банальную погоню за наживой по следам успешных французских образчиков подобного жанра:
Ибо странно предположить, что петербургские мошенники до того начитались французских романов, что и жизнь свою устроили по плану этих произведений[37].
Торжество порока, изображая которое, Крестовский, по мнению критика, видел себя маркизом де Садом, было тоже фальшивым. Ведь настоящий де Сад, замечал критик, был «органически-расстроен» и помещен в дом для умалишенных, а его русский эпигон возомнил себя «литературным де Садом по расчету»[38].
Проблема правды и действительности российских язв, а не расчетливо скопированных западных пороков волновала современников и должна была получить публичное разрешение в европеизированном Петербурге. Если посмотреть на новый суд в контексте нарративов о бессовестном Петербурге, то станет яснее, почему успешно самоорганизовавшейся петербургской адвокатуре Ф. М. Достоевский дал хлесткое определение «нанятая совесть».
Краткое содержание глав
В первой части книги (главы 1–3) рассмотрены две пересекающиеся истории развития представлений о том, чем должен быть русский суд: настоящие судебные места и воображаемый «суд публики» в печати. В первой и во второй главах речь пойдет об основополагающих проблемах российского правосудия. С помощью совести и новой организации судопроизводства планировалось избавиться от старых зол, которыми традиционно считались плохой судья и неясный закон. История службы выпускника Училища правоведения 1842 года Ивана Сергеевича Аксакова является замечательной возможностью погрузиться в реалии самодержавной законности и дореформенного судопроизводства. Прослужив чуть менее десяти лет, представитель типа «бесстрашного правоведа» неблагонадежный поэт Аксаков уволился со службы. Разнообразные личные и служебные документы и хлесткий приговор старому суду в известной пьесе Аксакова «Присутственный день уголовной палаты» позволяют проанализировать столкновение системы с чувствительным и требовательным человеком нового времени. На примере И. С. Аксакова интересно проследить процесс рождения юриста – «деятеля по совести».
Русская совесть не могла заявить о себе без развития «суда публики», которому посвящена третья глава. Она показывает, какими средствами стремительно развивавшаяся печать убеждала российских читателей в том, что настоящее искусство доступно всем, так же как справедливость и истина. Эта глава начинается с рассказа о попытке литераторов вовлечь читателей в судейское состязание о «приличествующем слоге» для русской оды в середине XVIII века. Далее, в соответствии с общей тенденцией демократизации литературы и чтения, русская печать все больше апеллировала к чувствам читателей. Как писал первый «присяжный критик» в России Виссарион Белинский, в XIX веке искусство перестало быть безделкой для потребления высших классов, мастерство которой могут оценить лишь светские знатоки. Настоящее художественное произведение и настоящий суд над ним не могли более оставаться привилегией высших классов, потому что их гениальность будила «святой восторг» у всех, кто мог созерцать ее[39].
Во второй части книги (четвертая, пятая и шестая главы) особое внимание уделено появлению нового типа публичных деятелей – обличителей. Их зримое присутствие в мире российской литературы и журналистики сыграло важную роль в том, как заработали новые суды. Главы этой части посвящены тому, как стали артикулироваться требования реформ «по совести» и насколько неоднозначные оценки вызвала перспектива введения суда присяжных, объявленная в 1862 году.
В итоге вторая часть этой книги позволяет соотнести движение к суду по совести в сфере судопроизводства и в сфере печати через признание значимым «чувства справедливости». Анализ этого чувства в рамках исследовательского подхода истории эмоций не входит в задачи этой книги. Апелляцию современников к «совести», «справедливости», «долгу», «истине» как к индивидуальным и коллективным переживаниям мы будем рассматривать как нарратив, специфическую форму выражения этических суждений современников, имевшую определенные задачи. В этой связи интересно рассмотреть вопрос, волновавший и современников реформы, но не получивший должного освещения в историографии: как в общественном сознании соотносилось благородное чувство (не)справедливости с ответственностью? Самое страшное преступление 1866 года – открытое покушение на жизнь императора – потребовало от публики исчерпывающих и публичных ответов на этот вопрос.
В третьей части (главы 7–9) речь пойдет о судебных практиках в первые годы Судебной реформы. В седьмой главе мы рассмотрим, как шокирующее преступление Каракозова стало испытанием для нового правосудия, резко обозначив проблему (без)ответственности прессы. Она возникла из-за того, что Александр II принял решение судить Каракозова и его сообщников по новым Судебным уставам, но за закрытыми дверями Петропавловской крепости. Это