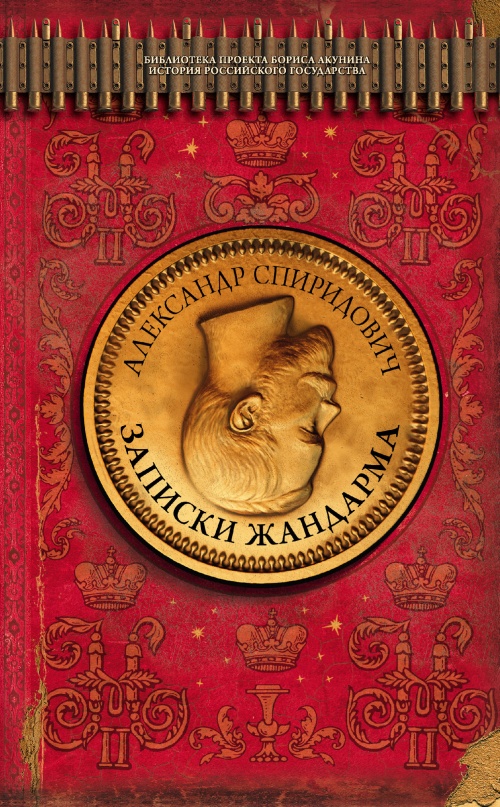Ознакомительная версия. Доступно 38 страниц из 190
или столкновениях разных точек зрения.
Отличительной особенностью дебатов того времени было и то, что официальные круги в разных странах не очень активно вмешивались в споры по идеологическим вопросам. Из множества исторических тем тогда выбирались наиболее острые, по которым противостояние было наиболее сильным и по которым очень часто в дискуссии включались и представители официальных кругов.
Обращаясь к тематике многочисленных мировых конгрессов и других международных встреч, можно выделить те проблемы, которые были в фокусе наибольшего внимания.
Наибольшая острота была, прежде всего, по проблеме истории Второй мировой войны. Как и ныне, в центре споров была оценка пакта Молотова-Риббентропа.Официально секретное приложение к пакту в Советском Союзе не признавалось, но это не лишало участников дискуссии остроты и напряжения. Основными оппонентами, как правило, выступали историки Советского Союза и Западной Германии. Так было и на мировом конгрессе 1970 года в Москве, на конгрессе 1985 года в Штутгарте и в последующие годы.
Как и сейчас оценка пакта использовалась для обвинения СССР в развязывании Второй мировой войны.Учитывая тот факт, что республики Прибалтики входили в состав Советского Союза, а страны Восточной Европы (прежде всего, Польша) были союзниками СССР по Варшавскому договору, никаких длительных проблем, касающихся судеб Восточной Европы, не возникало.
Касаясь общих проблем истории войны и вкладе в Победу, наши западные партнеры добивались, в основном, признания роли Второго фронта, ленд-лиза и т.п. в разгроме нацистской Германии. При этом ни историки США, ни Великобритании не оспаривали того решающего вклада, который внес Советский Союз в Победу.
В течение 70–90-х годов историками нашей страны совместно с учеными США и Англии были опубликованы совместные труды, проведены десятки международных встреч, на которых никому (в том числе и нашим партнерам) не приходило в голову отрицать роль Советского Союза в разгроме нацистской Германии.
И руководители этих двух стран (США и Англии) антигитлеровской коалиции не делали каких-либо заявлений, которые могли быть интерпретируемы как отрицание или преуменьшение роли Советского Союза и Красной Армии в Победе.
Как и по другим, более общим вопросам, в годы холодной войны сложились некие правила игры, за которые стороны старались не выходить. В какой-то мере это касалось и интерпретации истории.Об этом стоит напомнить. Шла так называемая холодная война, конфронтация прослеживалась по всем направлениям, но это не мешало историкам сотрудничать, а самое главное, вести научный диалог.
Следующий пункт напряжения касался оценки сущности и роли российской революции 1917 года. По этому вопросу основными оппонентами советских историков выступали советологи США, Англии и ФРГ. Совместить точки зрения историков-марксистов и западных коллег было, естественно, невозможно. Но и по этой теме никакой накал страстей не мешал нам сотрудничать с западными специалистами. Мы посещали советологические и русистские центры США и в других странах, участвовали во многих совместных конференциях. Западные коллеги нуждались в том, чтобы работать в советских архивах.
При обсуждении вопроса о русской революции и советской системы в целом в основе разногласий легли не геополитические, а ценностно-идеологические факторы.
Помимо оценок русской революции и Первой мировой войны в тематику дискуссии по истории включались и многие другие вопросы. Были серьезные разногласия в области методологии и теории, в оценке роли России в историческом развитии Европы и в мире в целом. Я помню острые дискуссии по вопросам о проблеме прав человека в истории, об «образе другого», национальном факторе и многие другие.
Говоря в общем плане и употребляя современную терминологию, можно использовать термин «идеологизации» истории, но даже в самые острые периоды холодной войны историческая проблематика не включалась так остро, как сейчас, в международно-политическую сферу и тем более в официальные отношения между странами.
* * *
Представляется в этой связи весьма полезным сравнить то, что происходило в то время с реалиями современного мира. Прежде всего, отметим кардинальные перемены в историческом видении и представлениях истории России.
В области методологии и философии истории марксизм перестал быть основной методологической основой нашего подхода к истории. В России за последние 30 с лишним лет были изданы основные классические труды историков прошлого и современного периода. В современной России историки в своем объяснении истории опираются на теории М. Вебера, А. Тойнби, Ф. Броделя и многих других.
В результате методологическая конфронтация российских и западных ученых сошла со сцены. Идеологические ценности и философские основы противостояния перестали быть в основе наших дискуссий на международном уровне.
В российской историографии произошел коренной пересмотр содержания, реального смысла и результатов Российской революции 1917–1922 годов. Соответственно, ушло фактическое отрицание роли Февральской революции 1917 года. Сейчас в российской исторической литературе превалируют и иные оценки Гражданской войны 1918–1922 годов, всего советского периода и т.п.
Применительно к истории Второй мировой войны, признаны и включены в научный оборот основные документы из российских архивов, включая и пресловутый протокол к пакту Молотова-Риббентропа. Ушли в прошлое и обвинения в адрес России о «закрытости» российских архивов.За последние годы многие сотни зарубежных ученых смогли работать в архивах России.
В связи со всеми этими обстоятельствами казалось, что отношения и контакты российских и зарубежных историков вышли на новые рубежи. И действительно, были созданы совместные Комиссии историков России и Германии, России и Латвии, России и Литвы, России и Австрии, России и Украины.
Впервые оказалось возможным подготовить и издать совместные учебные пособия для учителей России и Германии, России и Польши, России и Австрии.
Прошли многочисленные международные конференции и встречи, были опубликованы важные труды по проблемам теории и методологии, по различным историческим проблемам.
Но одновременно резко возросли противоречия на международном политическом уровне, в том числе и по исторической тематике. В этой связи отметим ряд обстоятельств.
Во-первых, в целом проявился значительный интерес к истории. Некоторые называют это явление настоящим «бумом» истории в научном и в образовательном сообществе, в сфере культуры, в литературе, в искусстве и в массовом обыденном сознании.
Во-вторых, как мы уже отмечали, ценностно-методологическое противостояние, ушедшее в прошлое на рубеже 80–90-х годов осталось привилегией прошлых времен существования Советского Союза.
Но на первый план вышли факторы геополитики и конкретных политических интересов.Мир захватывают попытки политизации истории, использование исторического прошлого для конкретных внутренних и международных проблем в интересах отдельных стран или различных политических партий и групп.
Всегда существовала связь процессов интерпретации истории с политическими интересами. Но трудно припомнить, были ли такие примеры вообще, чтобы в таких размерах и в таких экстремальных условиях обращение к истории было бы так активно включено в современный международно-политический контекст.
В отличие от времен холодной войны в этот процесс использования исторического прошлого включились реальные политики ряда стран. В результате историческое прошлое стало неким заложником политики. Подобное развитие событий отравляет международный климат,
Ознакомительная версия. Доступно 38 страниц из 190