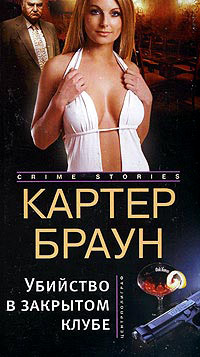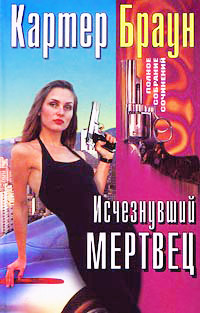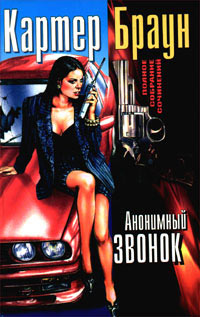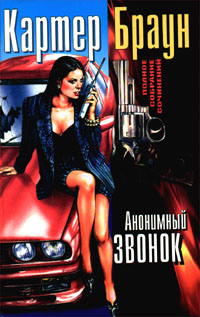махнул рукой и переключился на другие темы.
Впервые Сорди вспомнил о «Семи письмах Ста-гирита» в конце 60-х годов. Почему — вопрос особый, и ответ на него — несколько ниже. Пока что скажем лишь, что именно тогда он вспомнил о замечаниях Альберта Великого и решил все-таки получить для работы апокриф великого древнегреческого философа.
Это оказалось достаточно трудно сделать, но профессор Томмазо Сорди, тем более священник-иезуит — уже не студент-третьекурсник Миланского университета. Ему удалось получить документ. В своем дневнике он записал: «Наконец-то мне удастся поработать с самым любопытным произведением Аристотеля! На первый взгляд язык несколько отличается от языка классических работ Стагирита. Сходство можно найти разве что с «Poetica». Впрочем, к настоящей работе я еще не приступал, а первое впечатление зачастую оказывается ложным. Во всяком случае, это очень и очень интересное дело».
Через полгода он уже оценивал «Семь писем Стагирита» в других выражениях.
Прежде всего следует сказать, что отцу Томмазо так и не удалось доказать или опровергнуть авторство Аристотеля. Сам манускрипт, полученный им в Ватиканской библиотеке, относился к X веку и представлял собою объемистый том, переплетенный в свиную кожу. Собственно апокриф занимал скромное место среди прочих произведений, переписанных неизвестным монахом. Произведения были разнообразны по жанру — от счетных записей монастырского кастеляна до весьма фривольных латинских стишков, видимо принадлежащих перу какого-нибудь ваганта. Приписываемый Аристотелю труд выглядел на первый взгляд как школярские упражнения по греческому языку. Однако после полугодовой работы отец Томмазо все-таки перевел «Семь писем Стагирита» именно как произведение Аристотеля. Хотя и опубликовал его лишь в прошлом году — почти через двадцать лет после окончания работы. Казалось бы, что могло останавливать ученого-историка предать огласке свою работу, относящуюся к столь далеким временам?
Четыре из семи так называемых «писем Стагирита» скрупулезно излагают взгляды великого философа на самые разнообразные явления. Для неспециалиста эти длинные рассуждения, хотя и изложенные прекрасным языком (профессор Сорди был, вне всякого сомнения, блестящим переводчиком), могут вызвать всего лишь душераздирающую скуку. Прибавим к этому огромные примечания, касавшиеся особенностей перевода (достаточно сказать, что сноски занимают около сорока процентов от общего объема работы Томмазо Сорди; что же до их содержания, то вряд ли они могли бы заинтересовать читателей — суждения о глаголах сослагательного наклонения, об окончаниях греческих прилагательных, о различиях синтаксиса ново- и древнегреческого языка и тому подобное). Немудрено, что те немногие, кому удалось прочесть уже названный мною номер «Historia Arcana» (в котором Сорди опубликовал свой перевод с комментариями), возможно, так и не добрались до сути, до самого интересного, интригующего и загадочного в этой истории — до пятого, шестого и седьмого писем. Просто потому, что бросили читать на первом, многие — на третьем разделе. И совершенно напрасно.
Пятое письмо Аристотель начинает с рассуждений о том, совершенно ли творение богов, то есть — род людской, и живет ли человек в гармонии с природой. И, разумеется, дает отрицательный ответ. Собственно, и сейчас, спустя две с лишним тысячи лет мы ответили бы так же. Однако вывод, следующий из рассуждений, весьма смел и неожидан: следует создать новое существо, в соответствии с понятием гармонии. И описывает подробнейшим образом, говоря современным языком, методику этого эксперимента.
Речь идет (опять-таки, в терминах современной науки) об искусственном оплодотворении и внематочном развитии плода. Правда, в нескольких местах рукопись, видимо, была повреждена, к тому же отцу Томмазо не удалось перевести некоторые термины.
Шестое письмо любопытно прежде всего тем, что именно в нем Аристотель излагает, если можно так выразиться, экспериментальную проверку предыдущей теории. Выясняется, что полученное открытым им способом существо, во-первых, весьма целеустремленно в выполнении задачи, «заложенной» создателем-ученым. Во-вторых, его способности при этом превышают средние возможности обычного человека. В-треть-их, лишено какой бы то ни было половой ориентации. И, наконец, в-четвертых недолговечно. Срок жизни «гомункулуса» — 30 лет плюс-минус два-четыре года, иногда (в исключительных случаях и при особых способах ухода) может дотянуть до сорока. После этого он погибает от обострения какой-либо болезни. Причем за несколько лет до конца срока «гомункулус» начинает страдать психическими расстройствами различного характера.
Все это излагается автором вполне спокойным, академичным тоном. Разумеется, он рассматривает первые два качества вполне положительными, последние — отрицательными.
Каким в действительности было его отношение к собственной теории (и практике), выясняется из седьмого раздела-«письма».
Седьмое письмо рассказывает, если можно так выразиться, неофициальную биографию знаменитого воспитанника Аристотеля — Александра Македонского. Вот на некоторых поразительных моментах этой биографии мы и остановимся.
Если верить трактату, Александр вовсе не был сыном македонского царя Филиппа. Собственно, об этом говорили в древности многие современники. Правда, сомнения в отцовстве в данном случае были не весьма болезненны для Филиппа, ибо отцовство подлинное приписывалось кому-то из богов-олимпийцев — то ли Зевсу, то ли Посейдону. Слухи эти не пресекались матерью Александра царицей Олимпией.
Однако Аристотель утверждает, что и матери в полном смысле у великого царя не было. Великий завоеватель был, как вы, наверное, догадались, искусственным существом. Вернее, плодом серьезного научного эксперимента. Сам Аристотель не дает подробностей, отсылая интересующихся к своим работам, большей частью не дошедшим до нас.
Итак, «Семь писем Стагирита» описывают не столько научные идеи Аристотеля, сколько крах его великого и ужасного замысла. Развитие искусственного существа следует отнюдь не тем же законам, что и развитие существа, появившегося на свет естественным путем. Несмотря на поистине сверхчеловеческие способности «гомункулуса» (вспомним, например, невероятную физическую силу великого завоевателя, его гениальные способности, легенды о длительном пребывании его под водой и т. п.), он, был полностью неспособен, к продолжению рода. Равнодушие Александра к женщинам породило массу историй. Сын Александра и Роксаны, убитый после смерти царя Кассандром, одним из его бывших соратников, потому и был убит, что не являлся в действительности его сыном.
Все остальные факты биографии тоже вполне укладывались в выведенные самим же Аристотелем постулаты. Смерть Александра была скоропостижной, на рубеже 30–33-летнего возраста, а в последние годы жизни наблюдаются различные формы психического расстройства, выражающиеся вспышками немотивированной агрессии (убийство Александром своего друга детства и молочного брата Черного Клита, сожжение во время пира завоеванной столицы Дария III — Персеполя, внезапное прекращение победоносного похода в Индию и вдруг — паническое бегство назад), приступы амнезии. Напомню — внезапность гибели Александра породила массу гипотез — от заговора до неизвестной науке болезни.
Что убеждало профессора Томмазо Сорди в подлинности апокрифа? Прежде всего — абсолютное тождество биографии Александра с теми взглядами на природу «гомункулуса», которые существовали среди средневековых алхимиков и считались безусловно верными. Теперь