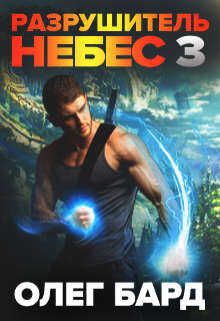class="p1">Две минуты. Так мало, но можно заглянуть в те тайны Дравика, до которых удастся дотянуться.
Я жду, сидя в кресле перед холодным камином, в компании еще более холодного робопса, лежащего у моих ног. Искусственный свет льется с высоты, омывая мрамор призрачным перламутром. Пес, похоже, чувствует мое беспокойство и прыгает ко мне на колени, напугав меня. Раньше он избегал такой близости. Я сижу неподвижно, пока он устраивается, и, когда кладет голову на лапы, робко касаюсь ладонью его головы. Хоть он и металлический, но, гладя его, я понемногу успокаиваюсь.
– А что, если дать тебе имя? – спрашиваю я. – Например… Луна?
Пес бьет хвостом по моей тунике, будто соглашаясь. Голографические часы отбивают одиннадцать, двенадцать, час, и, когда Луна спрыгивает с моих рук, навострив уши, я понимаю, что Дравик наконец вернулся. Постукивание его трости слышится громче, приближаясь к двери гостиной.
– Вы не говорили мне, – начинаю я. Стук замолкает, голос Дравика словно снимает с ночи бархатистую кожуру.
– О чем, храбрая девочка, – о перегрузке? О настолько сильном эффекте можно не беспокоиться.
Я свирепо смотрю на пятно на краю обеденного стола, оставшееся после уборки Киллиама, когда я не смогла удержать в себе ужин, думая о Сэврите. И о себе. Я стала работать в борделе мадам Бордо, едва представляя, что там со мной станет, а он вынул платок, прекрасно зная о последствиях.
– Наездников с перегрузкой используют, – говорю я. – Как животных.
– Я думал, ты давно все поняла, Синали. Им важно, чтобы кровь оставалась чистой, но важнее всего – чтобы род продолжался.
Судя по голосу, он не удивлен, словно ему было давно известно, что кончина Сэврита неизбежна. Все они знают. Каждому благородному понятно, какой конец ждет наездников, но они все-таки посылают их на поединки. Это безумие. Ужас. Нет – это их представления о чести. Дравик смахивает серную пыль с манжет – он побывал в Нижнем районе.
– Сэврит пожертвовал собой ради тебя, и теперь ты мучаешься чувством вины.
– Он был вашим другом, – возражаю я.
– Я отказался от всех друзей, когда покинул королевскую семью. Сэврит это понимал.
Несправедливо, с какой легкостью принц читает мои мысли – даже легче теперь, после двух месяцев тренировок, но, когда он в следующий раз войдет в системы особняка, я тоже смогу узнать кое-что о нем. Он останавливается у камина, Луна не отходит от его ног, виляя хвостом, не сводит с него взгляд больших сапфировых глаз.
– Вы можете убить Сэврита в больнице? – спрашиваю я. – Чтобы для него все кончилось?
– Мог бы, – спокойно отзывается он. – Но не стану.
Я впиваюсь ногтями в подлокотник кресла.
– Почему?
– Потому что уверен: он не настолько безнадежен, как нам кажется.
– Он же в необратимой коме. Как все наездники после перегрузки.
Голографические часы отсчитывают время. Улыбка Дравика рассекает тени.
– Так говорят.
Что он имеет в виду? Он как Сэврит – говорит, но смысла в его словах нет. Как Астрикс. На детском портрете в другом конце коридора он зеленоглазый, с рыжими волосами, а теперь выглядит как Астрикс из моих галлюцинаций в седле. Он сделал себя похожим на нее – со светло-каштановыми волосами, и, хотя у нее глаза имели неестественный серебристый цвет (почему?), возможно, когда-то они выглядели серыми, как у него после операции.
– Чего вы добиваетесь, Дравик?
Луна смотрит на принца, навострив золотые уши. Во всем, что происходит, в этой «игре», я – пешка. Кубок Сверхновой, король, шахматная доска, на которой все мы находимся, – что он стремится сделать? Это ваш последний шанс объясниться, прежде чем мне придется узнать все самой.
Принц смотрит в сторону на что-то – на кого-то невидимого, кого здесь нет, и, как всегда в таких случаях, он ласково щурится.
– Начать все заново, полагаю.
Там ничего нет, я точно знаю. Но когда он уходит, а я поднимаюсь с кресла, что-то привлекает мое внимание.
Это лишь лунный свет. Чахлые тюльпанные деревья и их тени в окне. А вовсе не блеск светло-каштановых волос. И не мелькнувший подол серебристо-голубого платья.
И Луна виляет хвостом вовсе не потому, что приветствует кого-то.
32. Капсус
Capsus ~ī, м.
1. загон, клетка для животных
В самом сердце мира человек делает подношение.
Он катит перед собой тележку, шурша белым лабораторным халатом. И ведет внимательным взглядом вверх по ядру, по бесчисленным миллионам серебристых волокон, свободно плавающих в бледно-сиреневом геле, но главным образом – по тонким, как дымка, щупальцам существа, вьющегося вокруг ядра высоко вверху. Человек знает, что это предупреждение – попытка к бегству. Возвращение к естественному порядку вещей, состояние наименьшего сопротивления. Он знает: то, что создано, неизменно разрушает себя.
Таков закон, который не под силу изменить ни королю, ни его наезднику, ни советникам с их бесконечными угрозами. Такова вселенная, и, если им удалось подчинить себе ее малую часть, это не значит, что она останется бездействующей навсегда: реальность старше, обширнее и смелее, чем когда-либо станет человечество.
Он знает: в том, что он расплачивается за грехи давно умерших людей, нет ни справедливости, ни несправедливости. Просто так случилось.
Он знает, что давным-давно старая Земля совершила первую ошибку. И последнюю.
А теперь он делает свою.
Одно за другим он выгружает из тележки подношения. Каждый раз мозг – идеально замороженный, подвешенный в твердосветной емкости с формальдегидом, – покидает его затянутые в перчатки руки, проталкивается через плотную пленку массивного ядра и погружается в гель. Каждый раз серебристые волокна подрагивают, словно учуяв добычу, а потом молниеносно опускаются – стая прожорливых падальщиков. Сквозь кишащее серебро человек едва видит ткани мозга, пока их почти не остается. Ствол мозга всплывает, истончившийся и отслуживший свое, как сердцевина яблока, объеденная дочиста.
Человек знает, что эта стая жаждет вовсе не калорий в тканях, а того, что находится внутри и между ними, – того, что даже теперь, по прошествии четырехсот лет научного поиска, не имеет названия. Он знает, что этой пищи им всегда мало. Знает, что они потребляют ее и пытаются вырастить себя заново, но множество человеческих машин, подключенных к ядру, перенаправляют каждую толику регенерирующей энергии на нужды Станции. Или делали так когда-то. Человек знает: как все, что эволюционирует, волокна нашли способы обходить машины, и медленный мятежный ручеек, за десятилетия превратившийся в реку, теперь угрожает поглотить все. Он знает, что они сам дьявол, но думает, что и Бог, возможно, питается так же, как они, – разумом, сердцем и душой. Он знает, что тварь со щупальцами, вяло кружащая высоко над его