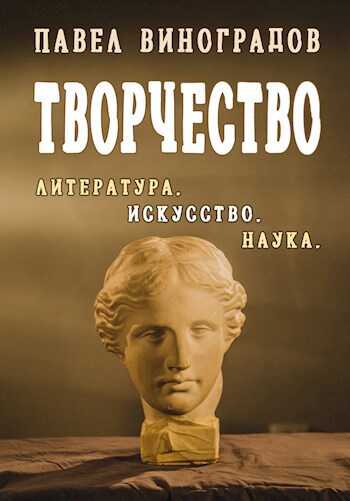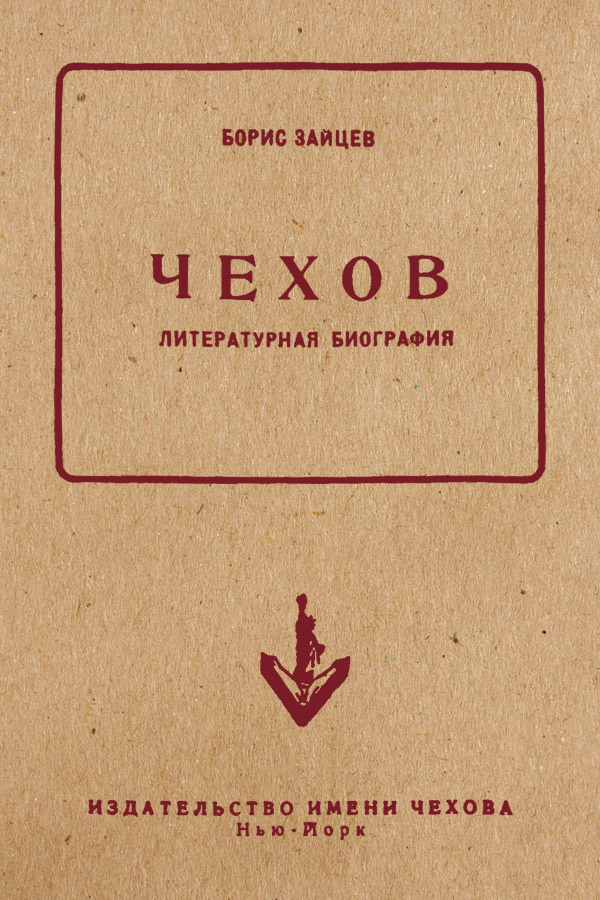свое время Байон, писал: «Этот странный и великолепный храм тонул в зелени, а его башни с божественными ликами были опутаны лианами и окружены деревьями. Добирались до него с огромным трудом. Трава скрывала развалившиеся ступени, мох и паутина делали их скользкими, и на каждом шагу надо было раздвигать густую листву, чтобы уберечь лицо от колючих ветвей. И когда, скользя и падая, порой с опасностью для жизни, не раз останавливаясь, чтобы передохнуть, человек достигал вершины здания, то под насмешливым взглядом гигантских идолов перед ним открывался лишь бескрайний простор леса».
Да, Байон, вернее то, что от него осталось, пришлось освобождать из плена джунглей, глушивших его в течение пяти веков. Под его обломками, как, впрочем, и под обломками других храмов Ангкортхома, скрывалась масса археологических ценностей — изделия из бронзы, золота, керамики. Они позволяли разглядеть и прошлое тех людей, которые когда-то владели этими ценностями.
Эпоха Джаявармана VII была последней вспышкой ангкорского великолепия. Распространение буддизма сопровождалось строительством храмов, постоялых дворов, больниц, лепрозориев. Прокладывались дороги, каналы. В окрестностях города поднялись пышные храмы Та Прохм и Прах Кхан.
— Но Ангкор — это не только средоточие дворцов, святилищ и монастырей,— говорил наш гид.— Оставаясь столицей обширной феодальной империи, простиравшейся на север и на запад от Большого озера до бассейна Тяо Прайи и на юго-восток до дельты Меконга, он играл роль и крупного экономического центра.
По старинной схеме, высеченной на камне, видно, что территорию столицы разделяли земляные дамбы, ограждавшие ее от разливов Тонлесапа и реки Сиемреап. Квадраты рисовых полей, на которые был поделен район Анкора, и сейчас хорошо заметны сверху по остаткам межевых насыпей. От крупных водохранилищ-бараев к ним тянутся линии каналов. Вдоль рек и насыпных дорог располагались поселения крестьян, кормивших столичную знать. В монастырях и храмах Ангкора, писал в своих дневниках Чжоу Дагуань — китайский посол, живший при дворе кхмерского короля в XIII веке, числилось более 12 тысяч жрецов, послушников, танцовщиц и музыкантов. В качестве подушного налога крестьяне свозили на царские склады рис, свежую и сушеную рыбу, пальмовое вино, пряности, масла. Известно, что в одном только храме Та Прохм ежегодно в светильниках и династических урнах сжигалось по 16 тонн топленого масла.
Грандиозные сооружения представляли собой искусственные озера, такие, как Западный и Восточный бараи, находившиеся недалеко от стен Ангкортхома. Емкость первого — около 30 миллионов кубометров. В свое время система сброса воды в него была нарушена, и в сезон дождей вся местность в районе Ангкора заболачивается. В 60-е годы делались попытки восстановить Западный барай с иностранной помощью, но работы не были доведены до конца. Теперь правительство НРК ставит задачу в ближайшие годы ввести в действие эту систему, которая позволит орошать сотни тысяч гектаров плодородной земли.
...Солнце клонилось к закату, и высокие деревья отбрасывали густую тень на немые изваяния. Легкий порыв ветра, предвещавший начало дождя, пронесся над джунглями. Вокруг все замерло. Силуэты расколотых башен на фоне темневшего неба проступали еще более рельефно. Казалось, они бросают вызов не только надвигавшейся грозе, но и будущему.
— После Джаявармана VII дворцовые интриги, заговоры и войны привели Ангкор к упадку и запустению,— заканчивал свой рассказ Чом Сим.— Золото и серебро растащили, каналы оказались заброшенными, жизнь ушла из города. Только Ангкорват оставался еще обителью монахов, другие храмы заглушила дикая растительность.
Мы шли от Байона по «Аллее слонов» к северному выходу. Слева остались развалины царского дворца Пхимеанакас с выбитой на каменной стелле Присягой побежденных. Дальше аллея повела мимо храма Бапхуон к «Террасе прокаженных», а оттуда по прямой мы вышли за крепостную ограду. От ворот, увенчанных казавшимися уже назойливыми ликами, нас сопроводили шеренги каменных гигантов, державших на руках семиголовых змей.
Автобус катил по шоссе, уводящему от древних ангкорских стен к Сиемреапу. Оглянувшись назад, в просвете обступавших дорогу деревьев я увидел в последний раз, как на башни Ангкорвата ложились мягкие облака. Их пронзало багровыми лучами вечернее солнце. Первые капли дождя простучали по крыше...
* * *
БЫСТРО летит время. Прошло уж свыше шести лет, как народ Кампучии, свергнув ненавистный режим, строит новую жизнь в условиях подлинной свободы. И кажется, только недавно ты простился с этой страной, с которой сопереживал ее горе, делил радости больших и малых побед.
Как замечательные вехи на пути становления молодой республики воспринимались нами сообщения об открытии новых предприятий, детских садов, институтов. Нас приглашали, и мы спешили приехать на важные события, чтобы запечатлеть еще один этап трудного, но неуклонного подъема страны. Вспоминается весна 1980 года, когда были введены в обращение деньги. На улицах Пномпеня вновь открылись магазины. Исчезла меновая торговля на рынке, при которой из классической формулы «товар — деньги — товар» выпадало среднее звено. Реформа способствовала ускоренному развитию товарно-денежных отношений и подъему экономики в целом.
Трудно, очень трудно возрождалось народное хозяйство республики. Если в 1979 году — сразу же после освобождения — удалось засеять рисом всего 770 тысяч гектаров земли и над страной витал призрак голода, то через четыре года под рисом было занято без малого два миллиона гектаров. С них собрали более 2,3 миллиона тонн зерна.
Это позволило решить важнейшую не только экономическую, но и, как отмечали в своих статьях пишущие о Кампучии журналисты, политическую задачу — добиться самообеспечения страны основным продуктом питания. В 1982—1983 годах на душу населения (с учетом его роста свыше 4 процентов в год) пришлось в среднем более 300 килограммов риса.
IV съезд Народно-революционной партии Кампучии в принятой экономической программе наметил довести к концу 1985 года сбор продовольственных культур до 2,5—2,8 миллиона тонн в год. Кампучийские специалисты в области земледелия высказывали уверенность, что эти показатели можно будет даже превзойти, если сохранить существующие темпы подъема сельскохозяйственного производства и если не помешают стихийные бедствия, которые в Кампучии бывают нередко.
Вопросы борьбы с засухами и наводнениями постоянно находятся в центре внимания кампучийских земледельцев. Поэтому так много сил они отдают строительству ирригационных сооружений, мелиорации. По данным на конец 1984 года, ирригационные системы, которыми располагала на тот момент Кампучия, позволяли орошать 55 тысяч гектаров пашни в сухой сезон и более 150 тысяч гектаров в сезон дождей. Специальные дамбы и каналы, многие из которых созданы после 1979 года, защищают более 35 тысяч гектаров посевов от затопления во время влажного сезона, когда часть земель оказывается под водой.
В соответствии с утвержденными планами, к 1990 году площадь обрабатываемых земель должна увеличиться почти на 30 процентов и