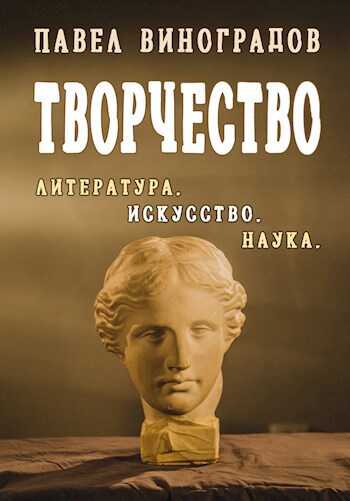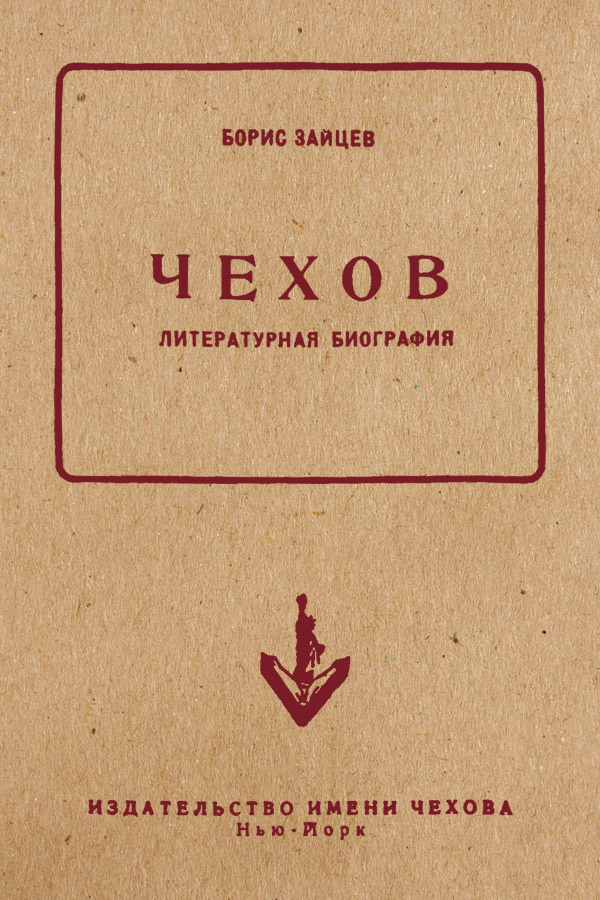колоннах, барельефами на стенах, они взирали на верхние башни-«прасаты» с благоговением и суеверным трепетом, как на покои самого Вишну. Туда допускались только жрецы и представители высшего духовенства.
По главному входу прошли в сложную анфиладу пересекающихся между собой галерей. Во внутренних павильонах, где когда-то располагались книгохранилища и у жертвенных алтарей совершались религиозные обряды, гуляют освежающие сквозняки. Оттуда открывается вид на центральную часть храма.
Потребовалось немало времени и сил, чтобы добраться туда, карабкаясь по лестнице, крутизна которой, кажется, приближается к вертикали. Солнце беспощадно грело наши затылки, ломило в висках. В одной из глубоких ниш мои спутники прислонились по очереди к отполированной, видимо, спинами таких же паломников стенке и, возведя глаза к небу, приложив руки к груди, пропели какие-то заклинания. Потом мне объяснили, что это место якобы освящено самим Буддой и каждый может просить здесь для себя исполнения тайных желаний. Все должно сбыться.
Находясь внутри дворца, невольно задаешься вопросом, зачем нужно было это нагромождение резного камня? К чему это явное несоответствие размеров и утилитарного смысла, приравниваемое в наш практический век к «архитектурным излишествам»? Объемы нависающих глыб, действительно, подавляют. Чувствуешь себя мелким и беспомощным. А может быть, в этом и есть ответ на все вопросы. Ведь своим видом Ангкорват должен был воздействовать на сознание человека.
Общая длина его стен — 12 километров. Большая их часть украшена резьбой. Весь комплекс занимает площадь 200 гектаров. Храм считается венцом эпохи расцвета архитектурных традиций кхмеров. Ни до него, ни после не было построено ничего подобного.
Объяснение «ангкорской гигантомании» следует искать в религиозных верованиях той эпохи. По различным оценкам, Ангкорват строился от 50 до 300 лет. Но основная его часть была уже готова при жизни короля Сурьявармана II (1113—1145), усердно исповедовавшего вишнуизм. Стремясь любой ценой увековечить свое пребывание на земле, он много энергии отдал религиозному строительству. При этом довел государственную казну почти до полного разорения. По его замыслам, храм Ангкорват должен был превзойти по красоте и размерам все другие культовые сооружения империи. В нем должны были воплотиться неземное могущество бога-царя и одновременно — память деяниям самого правителя. Не случайно храм стал усыпальницей Сурьявармана II, а главные ворота обращены не на восток, как у других храмов, а на запад, куда уходит солнце вместе с душами умерших. В Ангкортхоме, например, расположенном в трех километрах к северу, западные ворота так и называют: «Ворота смерти», а центральный вход с восточной стороны носит название «Ворота победы».
В сопровождении моих друзей я проходил одну галерею за другой, торопился заснять на пленку отдельные фрагменты. На верхних ярусах мы не встретили ни души. В темных павильонах пахло сыростью и гнилью. К потолкам лепились колонии летучих мышей, ноги скользили по липким камням. Наконец мы достигли центрального прасата, поднимающегося над землей на высоту 65 метров. Он и символизирует мифическую гору Меру — своего рода Олимп восточных богов. Но туда, кроме бонз, никто не имел права входить. Простой народ молился и штудировал в качестве поучений тексты и изображенные на стенах сцены из мифов в залах первого яруса. Двухметровой высоты барельефы внутри 600-метровой галереи давали обильную пищу для размышлений о сущности бытия. Поднимавшаяся к небесам верхняя башня оставалась недосягаемой для них. Восприятие шло через зрительные эффекты. В этом плане храм выполнен идеально. Все три яруса высятся один над другим таким образом, чтобы у идущего человека создавалась иллюзия, будто храм растет и парит в небесах. И от нее невозможно избавиться. В этом я снова убедился, когда Чом Сим вел нашу экскурсию быстрым шагом, рассказывая на ходу:
— По традиции в Новый год сюда приходит много людей. Всюду курятся благовонные палочки. Во внутреннем дворе «тысячи будд», по-кхмерски «преа-пеан», звучат молитвы, рассказываются легенды. Торжества продолжаются до глубокой ночи. В это время Ангкорват смотрится особенно живописным.
При более близком рассмотрении рисунков на камне замечаешь не только сюжеты из «Рамаяны» и «Махабхараты», но и сцены реальной жизни кхмеров. Интересна фигура Сурьявармана II, сидящего на троне. Несмотря на некоторую стилизацию, предстает портрет реального правителя.
— Конечно, то, что вы видите, лишь незначительная часть былого великолепия,— говорит Чом Сим, делая широкий жест рукой.— Нет больше позолоты на прасатах, разрушены надстройки на углах двора «тысячи будд», вывезены, похищены сотни каменных и бронзовых скульптур. Но время оказалось более милосердным к Ангкорвату, чем к другим памятникам его эпохи. А теперь я вас приглашаю проехать к Ангкортхому.
Гид был прав. Храм Байон, например, сохранился гораздо хуже, хотя и был построен веком позднее. Он стоит в самом центре Ангкортхома, как бы объединяя вокруг себя все его культовые сооружения. На четыре стороны света, словно символические оси координат, уходят от него аллеи к самым крепостным стенам, возведенным еще после злополучного чамского нашествия в 1177 году.
Издали династический храм скорее напоминает выветренную гору. Его венчает главная башня высотой 43 метра, у основания которой пристроено несколько часовен. Лишь по сохранившимся отдельным фрагментам можно обнаружить смотрящие на все стороны света лики Будды. Этот скульптурный сюжет повторяется десятки раз на других башнях Байона, но, сколько бы вы ни ходили по развалинам храма, вам не найти двух лиц с одинаковым выражением. Лицо, носящее, в общем-то, одни и те же черты, всегда по-разному смотрит на вас, выражая то презрение, то насмешку, то покровительство... Храм кажется обветшалым, забытым богом и людьми. Деревья близко подступают к нему, касаясь ветвями четырехликих изваяний.
Байон строился по велению короля Джаявармана VII, принявшего буддизм махаяны в качестве официальной религии своего государства. Это был сложный, поворотный период в судьбе ангкорской империи и, пожалуй, всей кхмерской нации. Символом власти становились уже не линги и прасаты, выражавшие божественный источник сущего, а статуи бодисатв — в некотором смысле богов-людей.
— В этих каменных лицах,— говорил Чом Сим,— нашли отражение портретные черты Джаявармана VII. При нем Байон стал не только центром города, но и всего государства.
Мы подъехали на автобусе к храму по аллее, ведущей от восточных ворот. Через главный вход мимо свирепых львов, отгоняющих злых духов, вдоль ряда квадратных колонн без верхних перемычек прошли в темный коридор. Звонкое эхо от стрекотания цикад испуганно билось в каменных лабиринтах. Две крутые лестницы вели к центральной целле, где нас встретила разбитая статуя Будды. На внешних галереях предстают барельефы со сценами сельской жизни, военных баталий, религиозных праздников.
Виктор Голубев — известный русский востоковед, живший во Франции и умерший в 1945 году в Ханое, посетив в