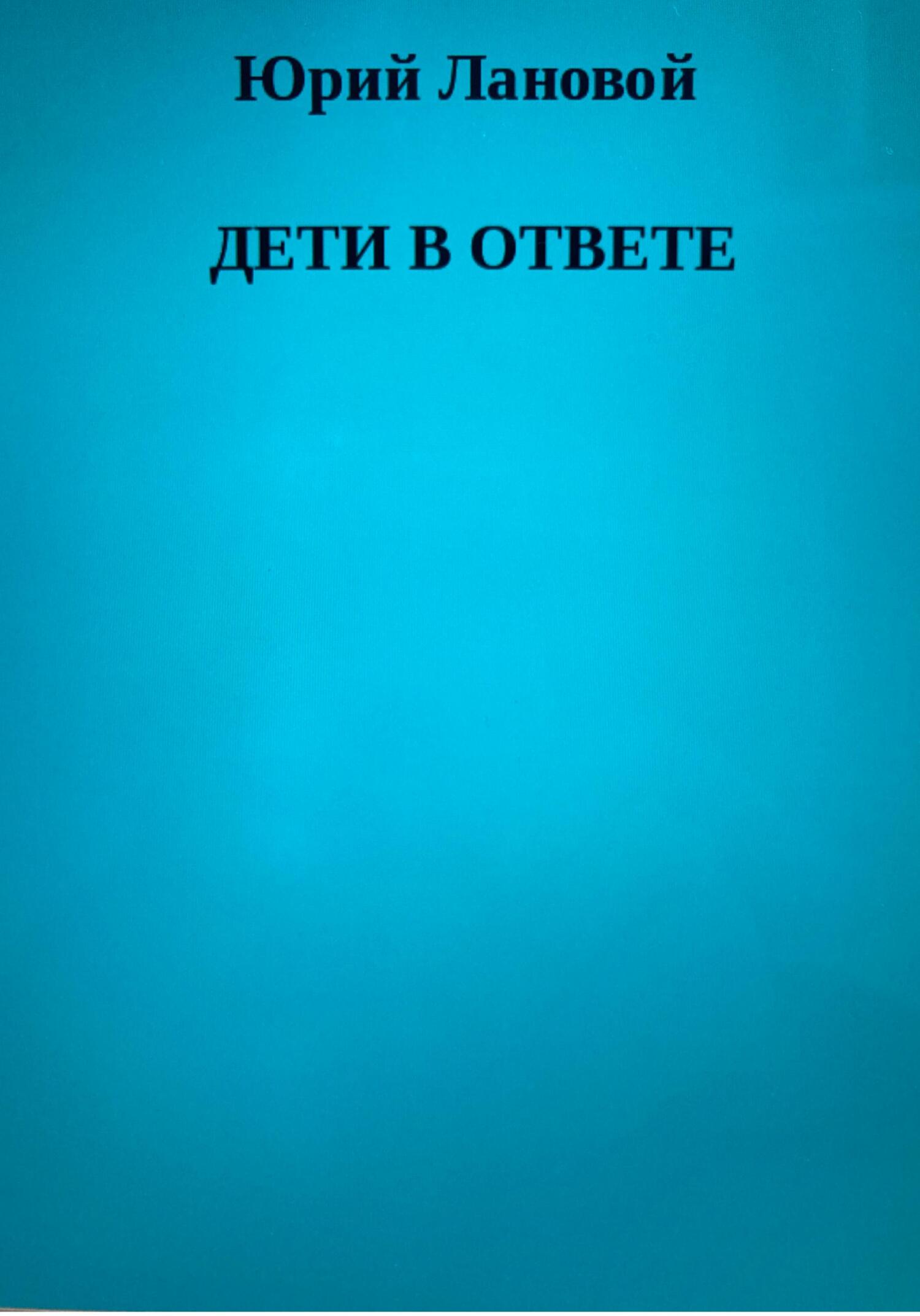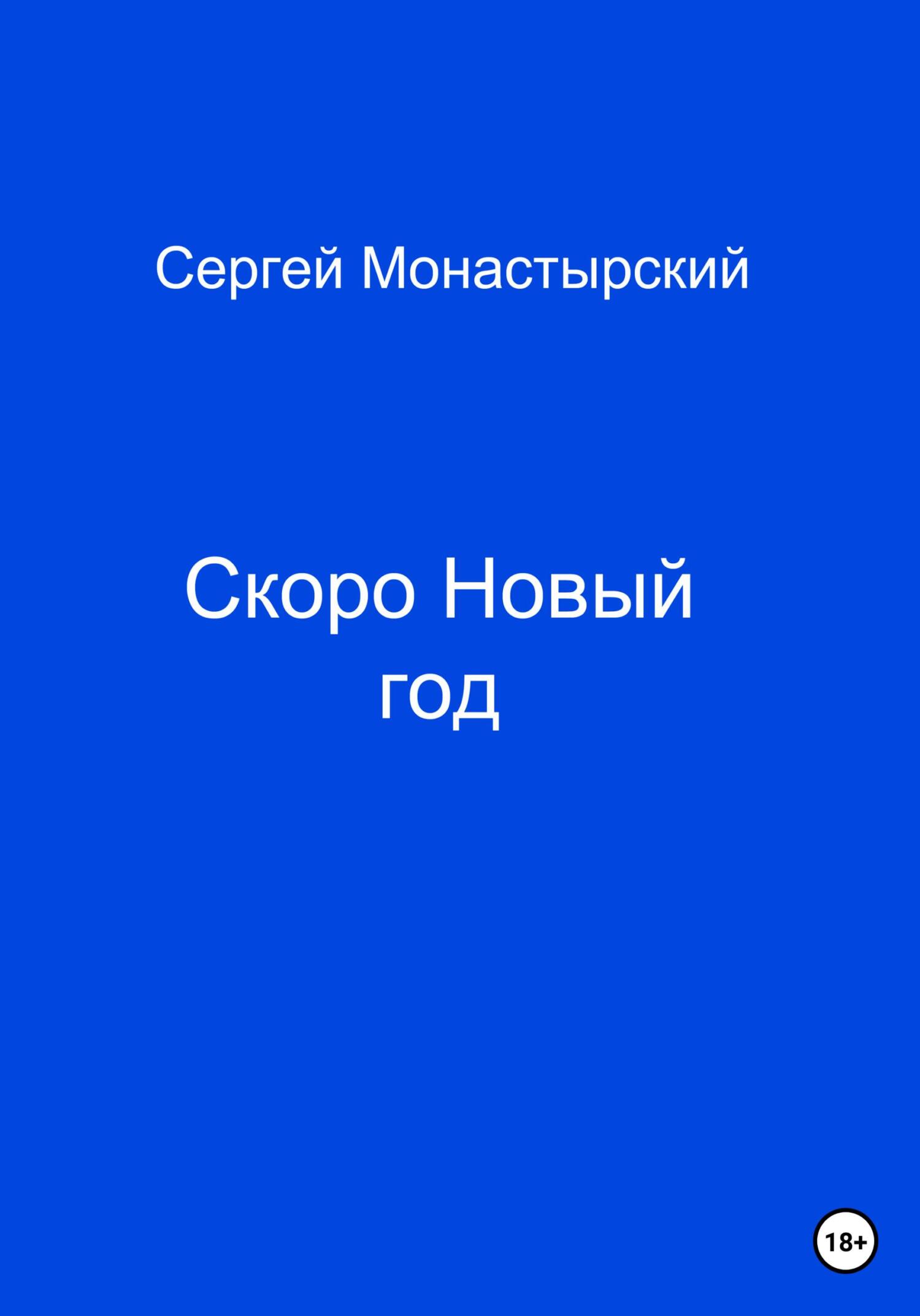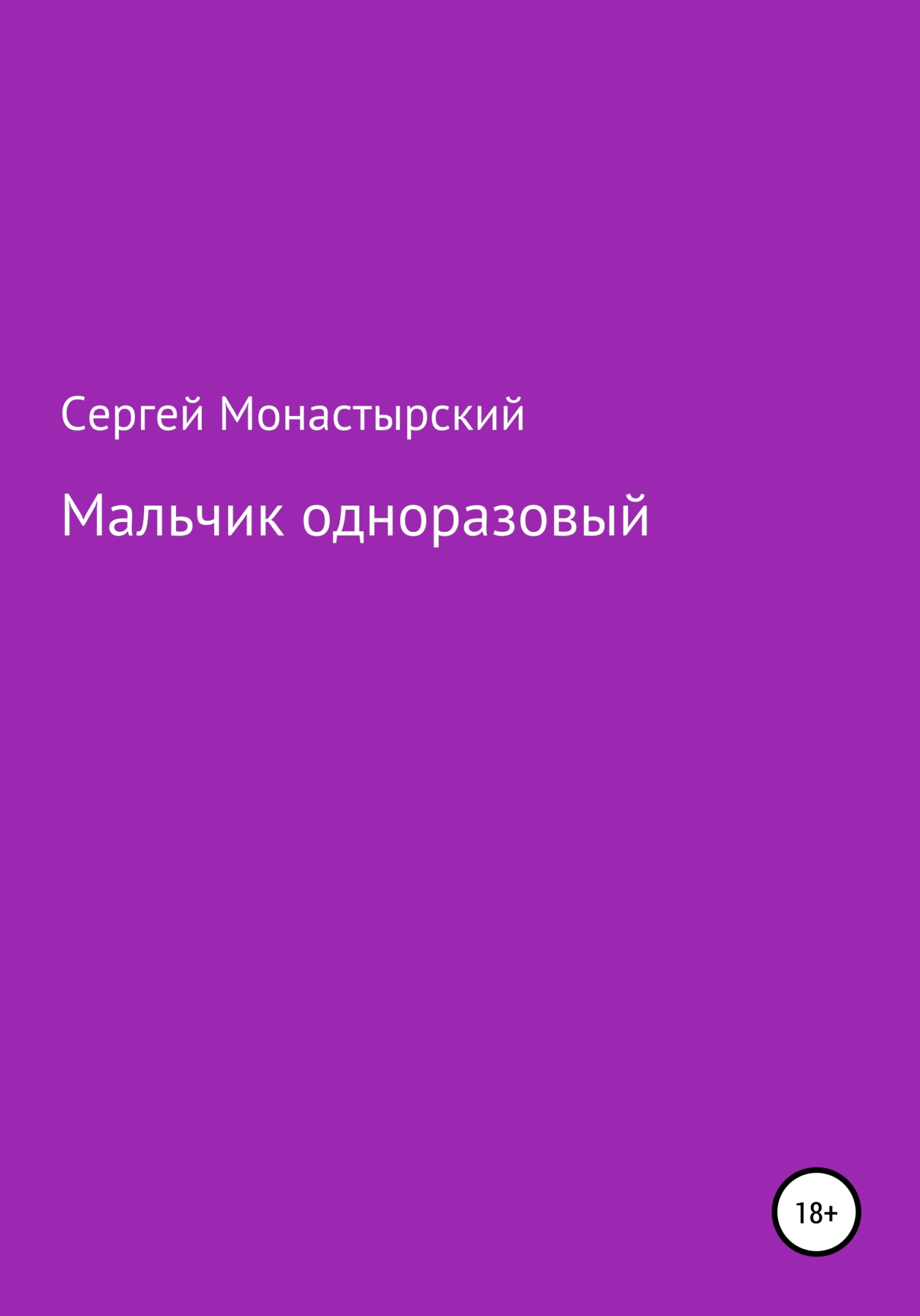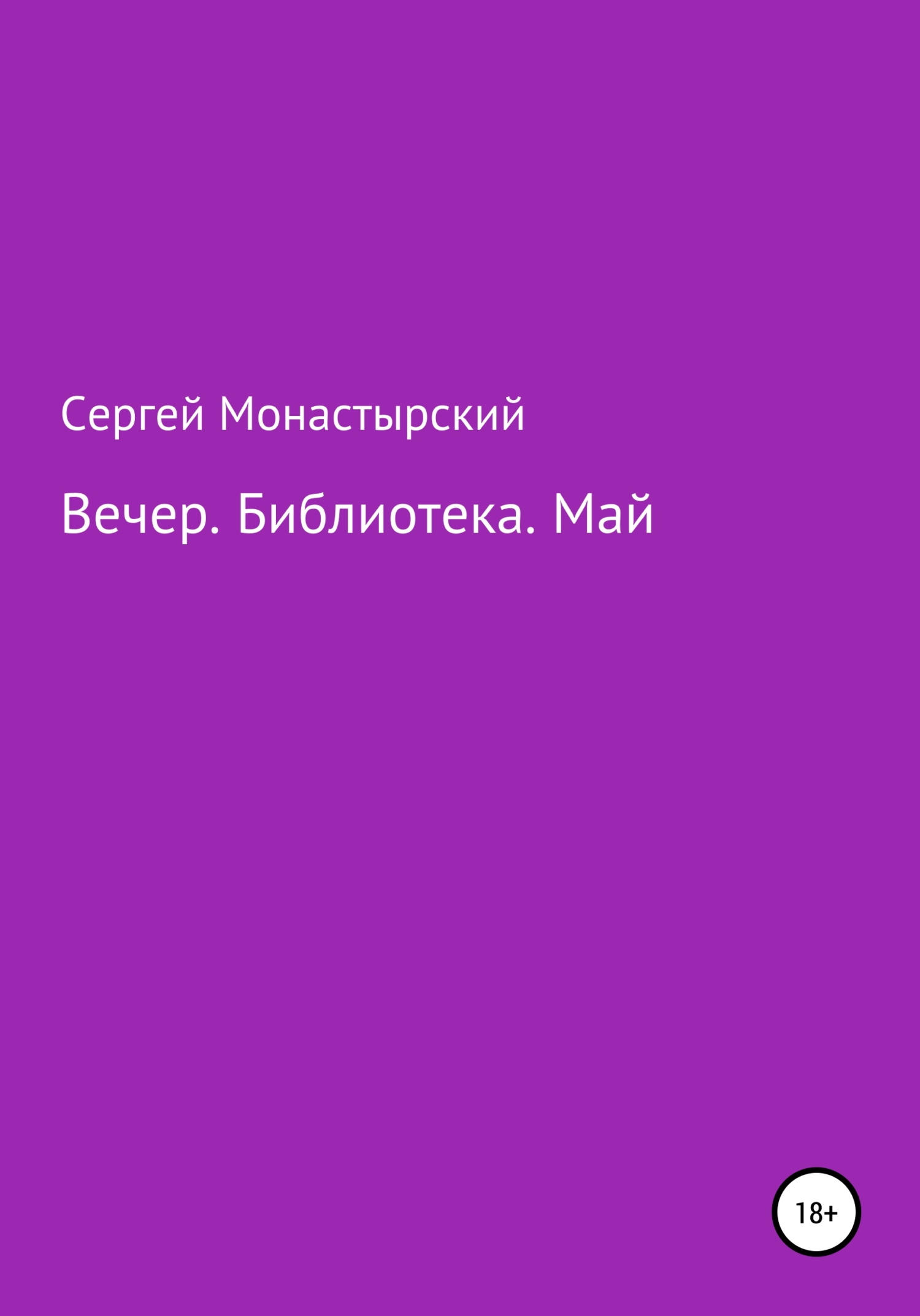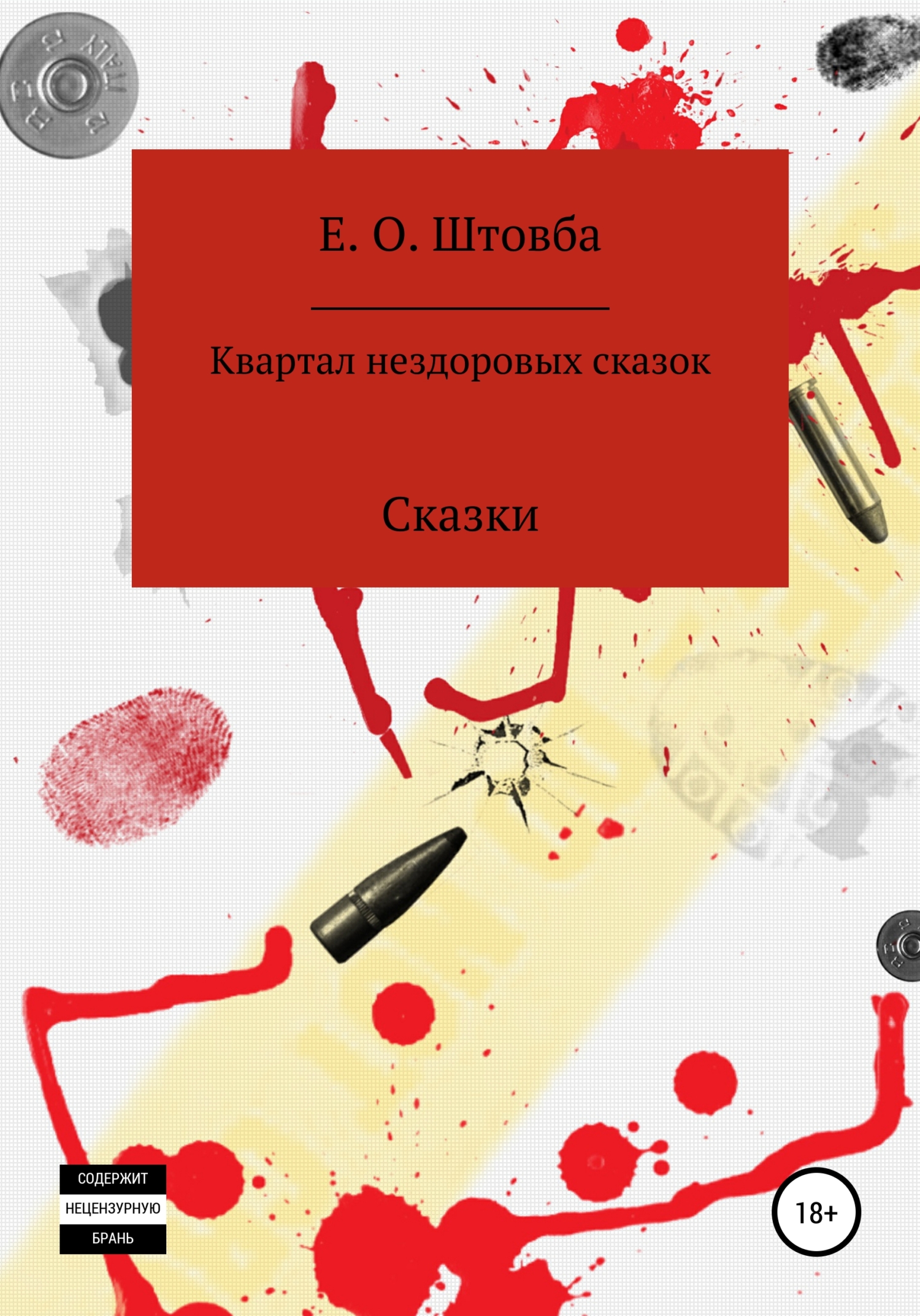дверью. Пусть знают, с кем имеют дело! Подумаешь!..
Тогда Саша был вторично вызван на заседание учкома, на котором присутствовали и члены школьного комитета комсомола, хотя Саша и не комсомолец. На этот раз хлопнуть дверью и нагло уйти было невозможно, — заседание происходило не только в кабинете директора школы, но при самом директоре, классной руководительнице и незнакомом Саше учителе. Правда, они сидели в стороне, на диване, и в разговор не вмешивались.
— Объясни, пожалуйста, — сказала Саше председатель учкома, ученица десятого класса, — почему у тебя двенадцать двоек?
Десятиклассница очень волновалась. Но Саша сохранял полное спокойствие.
— А вовсе и не двенадцать, — сказал он.
— А сколько же? — спросила смущенная десятиклассница.
— Тринадцать!.. Не двенадцать, а тринадцать.
Председатель учкома немного помолчала, как бы предоставляя Саше возможность самому почувствовать нелепость взятого им тона, и спросила:
— Может, тебе помощь нужна?
Помощь? Зачем она ему? Знает он, что такое помощь! Небось всё-таки придется и самому что-то делать… Нет, не желает он никакой помощи. Не нужна! Не нуждается!
Бились, бились с ним, наконец спросили:
— Можешь ты обещать, что изменишь свое поведение?
(Только у одного паренька было такое выражение лица, что вот-вот он ударит крепко сжатым кулаком, вот так просто возьмет и ударит! — но ведь нельзя, надо воспитывать, надо иметь подход…)
— Так как, обещаешь?
Но Саша даже не ответил.
Председатель учкома почти умоляющим голосом (добрая девочка так и горела желанием помочь, перевоспитать, чтобы всё было хорошо) убеждала:
— Ведь так нельзя, Саша. Тебе же хуже… Пойми!
Но он ничего не хотел понимать.
С тем и ушел.
Ушли и школьники — члены учкома, комитета. Остались взрослые. Директор школы заговорила о том, как трудна задача — исправить ошибки семейного воспитания. В школе учат, воспитывают детей на основе единой программы и единых требований. В семье их до сих пор еще воспитывают по-разному. Опасность велика не только тогда, когда родители перестают следить за ребенком. Она еще больше там, где отец и мать, уделяя много внимания и заботы ребенку, в каком-то нелепом ослеплении воспитывают эгоиста, не признающего никаких обязанностей, не знающего никакой ответственности.
— Да, да, — говорила директор школы, — сейчас уже очень трудно исправить ошибки, допущенные родителями Саши. Его баловали, избавляли от всякой работы, считая это проявлением родительской любви и самоотверженности. Незаметно для себя родители вырастили ленивого, бесхарактерного себялюбца. Есть такая формула: школа должна опираться на семью. А иная семья, сама потерявшая всякую опору в воспитании ребенка, в то же время старается диктовать школе: «Будьте с ним подобрее, поласковее, не наседайте на него, он к этому не привык…»
— А что если пойти снова в семью, попытаться поговорить с матерью Саши? — предложил Александр Борисович, новый учитель.
— Что ж, попробуйте, — сказала директор школы без всякой уверенности в голосе.
Видно, никаких надежд на этот поход в семью она не возлагала…
Отправляясь вместе с классной руководительницей домой к Саше, Александр Борисович больше всего думал о вине отца и матери, и это вызывало в нем чувство ожесточения против них. Как, своими руками, любящими руками, так нравственно изуродовать человека!
Но, когда он побывал в семье, поговорил с матерью (отец в это время был на работе), Александр Борисович сильнее всего почувствовал беду родителей.
Тяжело видеть страдания матери, которая сама сознаёт уже свою ошибку, понимает, как ее трудно сейчас исправить. Она уже поняла, что не она направляет жизнь сына, а сын направляет ее жизнь — ломает, коверкает. Нет, она ничего не скрывала в разговоре с учителями. Она сказала всё. Вот он, сын, даже убирать за собой не хочет, когда мать больна. Он умеет только требовать: дай, сделай! Вот и сейчас требует, чтобы ему какую-то особую кепку купили, хотя у него совершенно новая школьная фуражка.
Должно быть, разговор об «особой кепке» поднимался сыном не раз, и мать искала сейчас поддержки у учителей. Сын, Саша, который находился тут же и равнодушно, небрежно выслушивал жалобы матери, вдруг оживился.
— Ну да, — сказал он резко, даже крикливо, — просто не хочешь купить, денег жалко… Подумаешь, какие большие деньги! А кепки такие теперь все носят!
В голосе дрожь и обида.
Тут же он требовательно добавил:
— А чемоданчик? Сколько прошу?!
Мать стала оправдываться:
— Так ведь у тебя, Сашенька, портфель.
— Подумаешь, портфель. Что я, маленький, что ли?
— А зачем, собственно, чемоданчик? — спросила воспитательница, пожалев мать. — Почему непременно чемоданчик?
Саша повернулся к воспитательнице и с той же экспрессией заявил:
— Подумаешь, чемоданчик купить не могут… У всех чемоданчики!..
И это кричал семнадцатилетний юноша, который еще никогда своим трудом не заработал ни копейки. Вот ведь на заседании учкома еле цедил слова, а здесь заговорил — горячо, зло, с надрывом! Как человек, обиженный в своих лучших чувствах. Заговорил! Не тогда, когда его упрекали товарищи. Не тогда, когда мать с болью упрекала его в том, что он ей ни в чем не помогает. А тогда, когда речь зашла о том, что он считал своей настоятельной, неотложной потребностью. Хочу кепку! Хочу чемоданчик!
Но разве в кепке, в чемоданчике дело?
Учитель, пришедший в дом к Саше, думал: «Как это только отцу и матери удалось воспитать такого жадного потребителя, в таком чистом виде?… Ну, захотел, чтобы ему купили чемоданчик, кепку, велосипед… Ничего в этом худого нет. Но ведь объяснили ему, что это невозможно, что нет на всё это свободных денег, — мать больна, работает один только отец, есть еще дети… Объяснили, а ему дела нет!!.. Родители обязаны! А для себя не признаёт никаких обязанностей. Не сразу же он стал таким…»
Действительно, чаще всего, когда говорят об избалованных, заласканных детях, обвиняют родителей материально весьма обеспеченных, получающих высокую заработную плату… А здесь?… Отец его воспитывался в детском доме. Многие годы работал на Кировском заводе, у станка. Не расставаясь ни на один день с работой, окончил институт, стал инженером. Никогда он себя не жалел. Сына же отгораживал от труда. И в том, как он и его жена отгораживали сына от труда, сказывалось рабское отношение к труду как к бремени, чуть ли не вековечному проклятию.
Возможно, что случившемуся можно найти и несколько другое объяснение. Детство отца было очень горьким. Он рано потерял родителей, был беспризорником, много скитался, пока попал в детский дом. И вот он — взрослый, самостоятельный. У него своя семья, свой дом. У него сын. Так пусть же детство сына будет безоблачно. Пусть на плечи сына никогда не ляжет то, что так омрачало детство отца. Пусть сын всегда