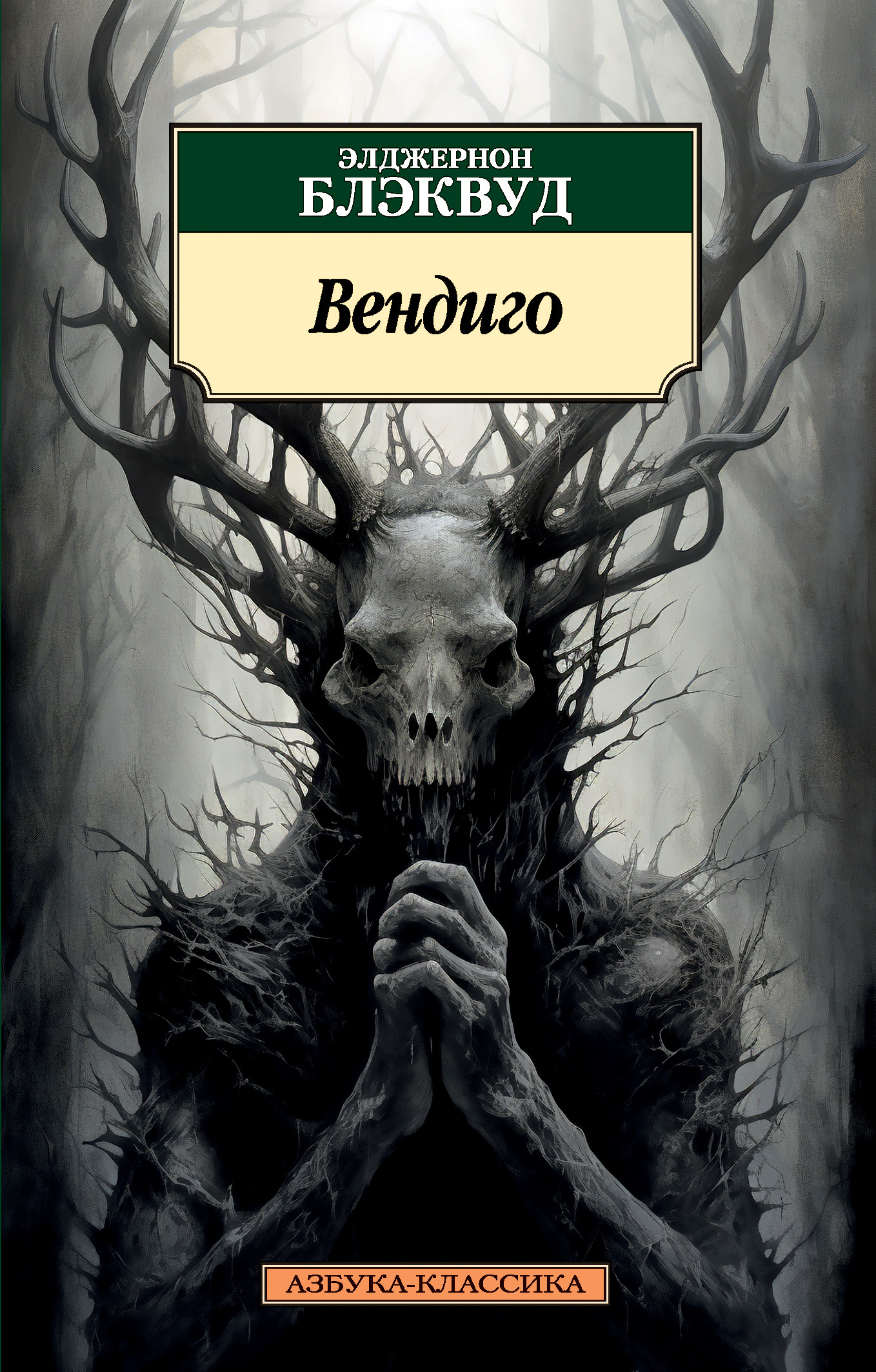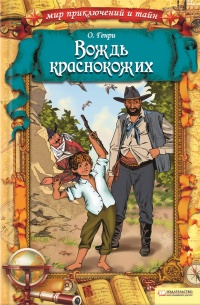не дал слабины, не сбился на скороговорку, не проглотил ни слога, истово и упорно ведя свое, подобный пустому месту, но полный решимости провести свою часть службы достойным и подобающим образом, несмотря на всё давление.
Для меня, человека, не привыкшего к местным обычаям и ненавидящего бормотунов, только его присутствие и спасало эту службу, и мне захотелось познакомиться с ним поближе. Сделать это было проще простого – дождаться будних дней и пройтись по деревне, а там уже глаз сам найдет человека, одетого, словно в мешки, в поношенную и выцветшую одежду, с нахлобученной на голову бесформенной соломенной шляпой, иными словами, сошедшее с палки пугало. Во всей деревне ему не было равных не только в необычной внешности, но и в постоянной кипучей деятельности. Помимо приусадебного участка, где он держал птицу и выращивал фрукты и овощи, у него была еще и делянка, где он занимался тем же самым. Дважды в неделю, в рыночные дни, загрузив маленькую тележку плодами своих трудов, он вез их в ближайший городок на продажу. Но и оставшееся от основных работ время он умудрялся занять тысячей чудаческих промыслов, таких как подстригание изгородей, косьба газонов, починка соломенных крыш, деланье чего-то по саду в целом и т. д. Ни разу не видел, чтобы он сидел сложа руки, да и просто усадить его больше чем на пять минут было задачей из разряда невозможных, но всё же, бывало, он станет, опершись на лопату, чтобы перевести дух, и тогда делится со мной воспоминаниями о былых днях. Еще раз напомню, что этому тщедушному с виду человечку было ни много ни мало семьдесят четыре года! И что сорок пять из них он занимал должность приходского священника, которую до него на протяжении более чем полувека занимал его отец.
Позже, путешествуя по Гемпширу, я дважды вспоминал о нем, читая эпитафии приходским священникам на надгробиях в церковных дворах. Вот одна из них, из Хекфилда, недалеко от Эверсли.
Под этим камнем покоится Уильям Нив, пришедший в мир 10 января 1821 года, проживший непорочную жизнь и в покаянии отошедший к Господу в возрасте 79 лет, из которых 45 были отданы приходу, где до него ту же должность (с честью поддерживая и утверждая основы государственной церкви) занимали его отец, Томас Нив, и дед, Уильям Нив. На протяжении 136 лет беспрерывного служения трех поколений семьи Нивов нашему приходу великое множество омытых ими в купели и наученных розгами во время беспутного детства было отпето и препровождено ими в ту самую землю, где сегодня покоятся и они, уповая на воскрешение в жизнь вечную.
Но вернемся в Итчен-Эббас, к старому пастору, вся жизнь которого от рождения и до сего дня прошла в этой деревне, и чья цепкая память сохранила всё произошедшее за долгие годы. Сквайры, священнослужители, фермеры, наемные работники – он помнил их всех: фермеров еще старых обычаев, деливших трапезу со своими людьми в те времена, когда общество еще не разделилось на классы, а пианино и церковный орган – эти убийцы народной музыки – только начинали водворяться в деревне. В те времена еще водились привидения и феи – шаловливые человечки, которых никто не видел, но все точно знали, что они рядом, хотя бы вон на том поле, которое так и называлось – «Заколдованным», потому что конь с плугом в определенной точке останавливался и ни в какую не шел дальше. Это уже потом, при покойном владельце сэре Чарльзе Шелли, на глубине от трех до четырех футов была обнаружена хорошо сохранившаяся римская мощеная дорога, ровно перед которой и упрямился запряженный в плуг конь! Героем еще одной истории из серии потусторонних был старый дом, лепящийся к самому краю деревни и словно сверху любующийся тихой долиной Итчена. Хозяин дома, как гласила молва, совершил убийство, и после его смерти дом зажил своей, непонятной, жизнью – по крайней мере, я никогда раньше не слыхал подобных историй о призраках. В самую тихую ночную погоду в окрестных деревьях поднимался шум, словно сильный ветер трепал кроны. Набрав силу бури, он начинал катиться к дому, но на подступах неизменно затухал, и снова воцарялась тишина.
Старый пастор познакомил меня с одним из своих старых друзей, чтобы тот поведал мне свою историю встречи с призраком. Случилось так, что полвека назад моему молодому тогда собеседнику вздумалось пойти нарвать яблок в большой яблоневый сад, который одной стороной упирался в лес, другой стороной – в высокую стену, за которой виднелись деревья той самой усадьбы. Ветер безмолвствовал; часы, если бы их можно было разглядеть в темноте, показывали полночь. Ветви яблонь гнулись к земле под манящей спелостью яблок позднего октября. Перебравшись через стену, мой рассказчик закрепил за пояс холщовую робу и, ловко работая руками, стал поспешно набивать свой импровизированный мешок яблоками. Когда яблок набралось столько, что он едва мог идти, и ему как раз стукнуло в голову, что с такой ношей вскарабкаться на стену навряд ли удастся, в лесу за садом вдруг поднялся шум ветра и стремительно покатился по направлению к нему и к дому. Естественно, он не раз слышал рассказы о призрачном ветре. В считанные секунды шум превратился в завывания настоящей бури, хотя на деревьях не трепетало ни листочка. Охваченный ужасом, он побежал и, несмотря на свою увесистую добычу, в мгновение ока был на стене. Если бы я был котом, и то так шустро не вспорхнул бы! – клялся он, – ей-богу, не знаю, как у меня так вышло. Но вот незадача: сидя на стене, он оскользнулся и неудачно упал на другую сторону – пояс порвался, и яблоки дружно раскатились по зеленому сукну лужайки. Даже не подумав о том, чтобы их собрать, он опрометью бросился к воротам и перемахнул их в один выдающийся прыжок, по крайней мере, он не помнит, чтобы касался перекладины. Приземлившись на дороге, он припустил со всех ног и без оглядки бежал до самого дома. Память закадычных друзей хранила еще множество подобных историй, но меня в первую очередь интересовала судьба последних из авингтонских воронов, о которой старый пастор был осведомлен лучше, чем кто-либо в деревне.
Вóроны – как бы мы ни относились к этим птицам – удивительнейшие из пернатых созданий. Сила их натуры поражает. Правда и то, что их ум кажется нам сверхъестественным для птицы; и о кровожадности – правда, и о физической силе, и о грудном, чуть ли не человеческом, голосе, и о фантастическом долголетии. Не потому ли,