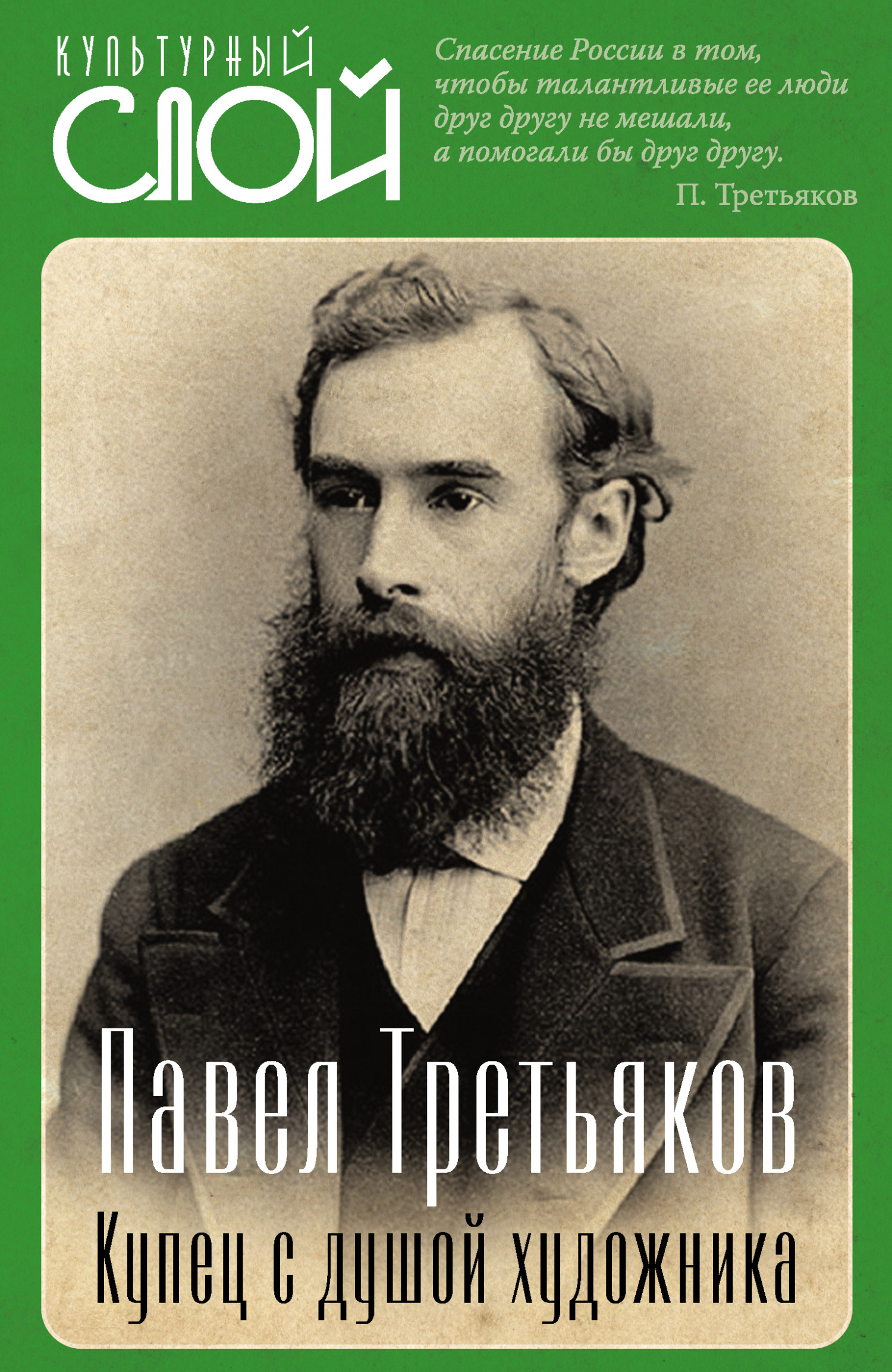и увидел, как сквозь туманное марево светится в ночи величественный купол собора Святого Петра, будто осенявший наш путь, который, как показали дальнейшие события, уводил нас от этой площади все дальше и дальше. Больше в этом составе нам не суждено будет встретиться.
Вскоре у Аркадия начнется черная полоса – череда смертей, уходов, депрессия. К тому же имелся тайный длинный список его собственных болезней и недомоганий, которым ему все труднее было сопротивляться.
Я храню его письма. В них почти нет жалоб, но много неподдельной боли. Как и в его текстах. Один из самых пророческих и страшных был написан для литературного проекта журнала «Сноб». Правда, первоначальное название эссе «Опершись ж…ой о гранит» мне пришлось поменять на более благозвучное «Сон Рафаэля». «Ну это же наше все – Пушкин!» – вяло сопротивлялся Аркадий, но в конце концов смирился.
Даже по великой дружбе пропустить бранное слово в заголовок журнала я не мог, впрочем, никто бы и не позволил. Тем не менее эпиграмма Пушкина впрямую рифмовалась и с мифом о Тесее и Пирифое, приросших к камню в царстве Аида, и с Конюшенной церковью, где отпевали «солнце русской поэзии».
«Умер Кирилл Иванович много лет спустя, превратившись в довольно элегантную мумию, плохо что соображавшую, но по-прежнему вежливую. В своем завещании он запретил гражданскую панихиду, поэтому те из молодых поколений, что захотели посмотреть на мифологического старца в гробу, пришли на отпевание в Конюшенную церковь. Там, в неоклассическом интерьере Стасова, он и лежал, на себя непохожий и, с провалившимся ртом, очень уродливый. Народу было немного, но цветов достаточно, и очень все было благочинно»[3].
В «элегантной мумии» Кирилле Ивановиче было нетрудно узнать самого Аркадия Викторовича Ипполитова. К себе он относился без всякого снисхождения и пощады. С годами в его текстах и словах появился горький сарказм. До старости было еще далеко, но он все чаще задумывался о смерти. Время от времени в письмах Аркадия возникала тема Нового Волковского кладбища, где была похоронена его мама и все ее родственники.
«Мне нравится ездить на кладбище – оно красивое, – писал он мне в декабре 2021 года. – Это новая часть Ново-Волковского кладбища, довольно старого, XIX века, в меру заброшенного и заросшего, но не покинутого совсем. Все время думаю, что хочу здесь лежать: там похоронена бабушка, дедушка, мама, две тетки и дядька – вся семья в одной могиле. Никуда бегать не надо, все вместе. На плите уже нет места новым надписям. Когда мы были с Данилой там в последний раз (давно), я ему сказал, что хочу здесь – пусть кремируют, а потом подкопают. Он посмотрел и сказал: “Да, задачка будет”, подумал и добавил: “И я тоже тут хочу”. Мне всегда хорошо после того, как съезжу. Это недалеко, три, кажется, остановки на метро, прямая ветка. От метро – десять минут. Никогда нет народа. Совсем мною как обязанность не воспринимается, – наоборот, хочется сказать “как увеселение”. Разнообразие, во всяком случае».
В последний год Аркадий каждый день слушал по одной песне из «Зимнего пути» Шуберта. Когда мы говорили по телефону, на вопрос «Что делаешь?» – ответ был один «Слушаю Шуберта». «Зимний путь» как постоянный музыкальный фон, как лекарство от горечи и разочарований жизни. Известно, что Шуберт писал этот песенный цикл в состоянии последнего отчаяния. Ни денег, ни славы, ни любви. Бетховен, который ему благоволил, умер. В месте придворного вице-капельмейстера Венской оперы ему отказали. И как последняя попытка справиться с мраком тоски и печали «Зимний путь» – цикл из 24 песен на стихи поэта-романтика Вильгельма Мюллера, весьма тогда модного и успешного. Опять же никто не захотел всю эту заунывность исполнять при жизни композитора. Но, как только Шуберт умер, его поспешили объявить гением. А за год до этого умер и Мюллер. Ушли один за другим. А потом кто только этот «Зимний путь» не пел, кто только не исполнял. Помню величественный профиль Святослава Рихтера и похожего на лютеранского пастора Петера Шрайера на Декабрьских вечерах 1985 года в Пушкинском музее. Высокая проповедь немецкого романтизма. Видел я и Маркуса Хинтерхойзера, выдающегося пианиста, нынешнего директора Зальцбургского фестиваля, с тенором Маттисом Герне, сосредоточенно страдающих на фоне черно-белых визуальных объектов Уильяма Кентриджа. Слышал прекрасного Йонаса Кауфмана, поющего «Зимний путь» с тем же радостным и вдохновенным подъемом, что и своего Каварадосси в «Тоске».
Winterreise, Winterreise… В исполнении этих артистов «Зимний путь» все время уводил в рождественские снега, к теплым огням, к ледяной гармонии, открывающимся перед внутренним взором несчастного, но умеющего справляться со своими несчастьями европейца.
По-настоящему я «услышал» «Зимний путь», когда увидел совместный проект фотографа Дмитрия Сироткина и Аркадия Ипполитова в Генеральном штабе в марте 2019‐го. Только сейчас понимаю, что в этих фотографиях, как в музыке, было предчувствие грядущей катастрофы. Но не как у Верди или Вагнера, во всю мощь медных, а тихо-тихо, почти без всякой педали. Очень сдержанно, с тем глухим отчаянием, когда уже нет сил кричать. Так человек смотрит на снежную пустыню, которую ему больше не одолеть, не пройти, не осилить. И надо просто с этим смириться. Белый цвет все примирит, все скроет, делая невидимыми былые бездны. Белый – королевский цвет траура. Белый – цвет больничных покоев. Цвет покоя. Это и есть внутреннее состояние «Зимнего пути». Недаром за эту музыку брались, как правило, только выдающиеся музыканты. Этот белый должен быть растворен в звуке.
Имя Дмитрия Сироткина часто возникало в наших разговорах с Аркадием. Фотограф, художник, дизайнер книг. Поэт петербургских сумерек, туманов, ночей и снегов. С 2013 года штатный фотограф Государственного Эрмитажа. Там они познакомились с Ипполитовым. Два главных хранителя петербургской идентичности. Два денди.
Я люблю черные стволы сироткинских деревьев, делающие Летний сад похожим на таинственный, непроходимый лес. И эту его льдину, эпично плывущую мимо Зимнего дворца. Дмитрий все знает про лед. Про снег. Но и про цветы для Персефоны. Так называлась выставка, которую он в свое время устроил на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры. Я видел светящиеся кубы, в которые были замурованы живые цветы и листья. Среди надгробий и крестов они были похожи на цепочку светящихся фонарей, по которым живые могли отыскать дорогу к своим мертвым. Еще одна репетиция «Зимнего пути»? Впрочем, тогда стояла осень. И снега еще не было.
Символично, что после смерти Аркадия Ипполитова именно Дмитрий взял на себя горькую обязанность запечатлеть интерьеры его квартиры, а также принял активное участие в выставке «Melancholia. Памяти Аркадия Ипполитова», которую мы с художником