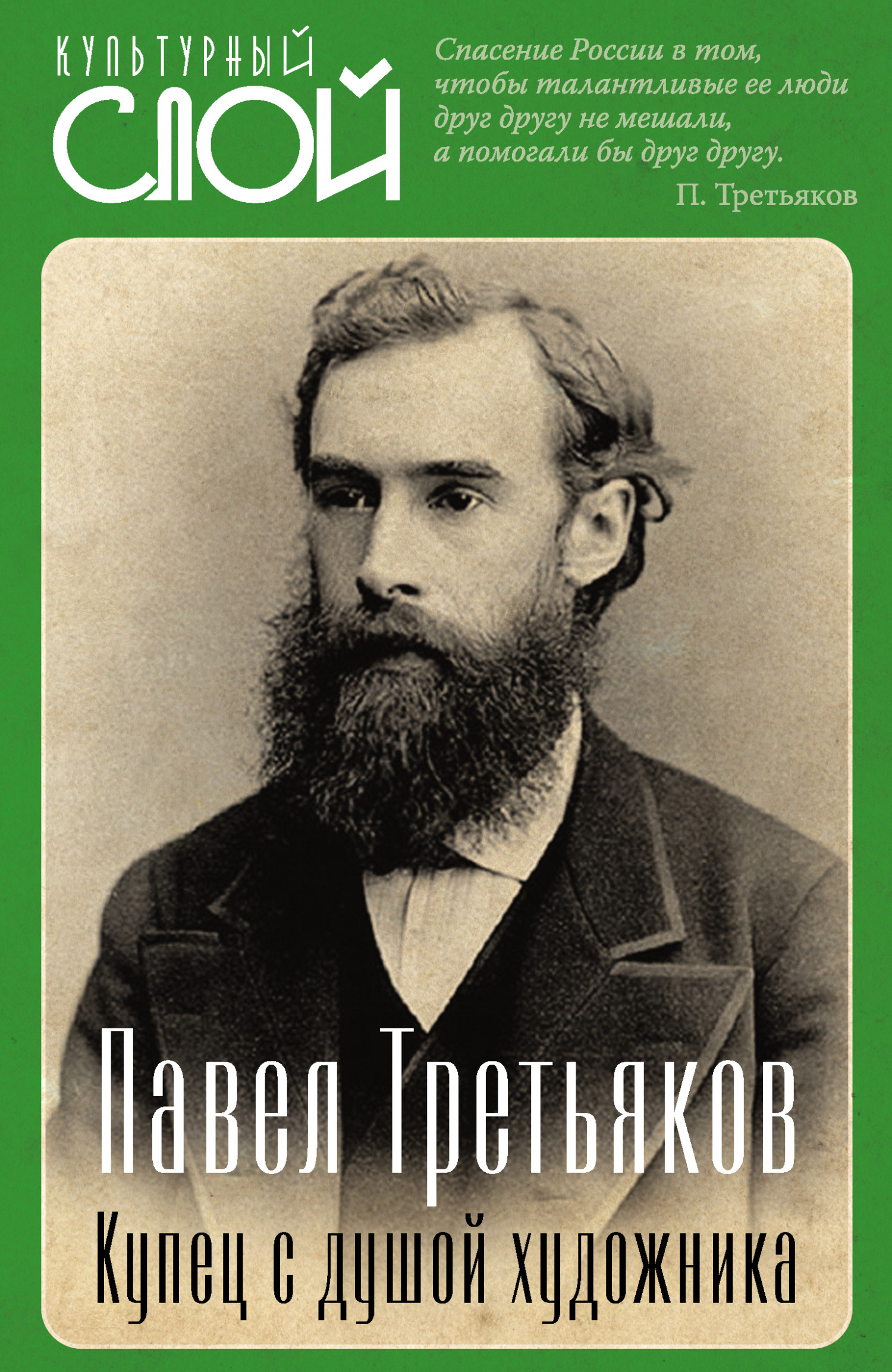Ольгой Тобрелутс, архитектором Антоном Горлановым и директором KGallery Кристиной Березовской подготовили в марте 2024 года.
Прекрасно, что и в «Последней книге» будет представлен большой корпус фотографий Дмитрия, сделанных им в разные годы в Петербурге и в Риме. Это как раз тот самый аккомпанемент, второй голос, исполненный сумрачной, тревожной силы, который звучит в «Зимнем пути» у Шуберта.
А свою вторую книгу про Рим Аркадий так и не закончил. В одном из его писем я прочитал горестное признание: «Совершенно Римом раздавлен. И, видно, постарел. Про Венецию все казалось так просто – сел и пиши. Перед Римом же какой-то страх, постоянное ощущение недостаточности своих способностей и даже недостаточности элементарных знаний».
Я видел, как он мучается, и предлагал ему прекратить эту пытку, занять деньги и вернуть издательству аванс. После чего начать что-то другое. Аркадий неохотно соглашался с моими доводами. Но снова с упорством маньяка возвращался к римским неприступным стенам и древним камням. Словно надеялся за ними укрыться от приближающейся бури и новых несчастий.
В апреле 2020 года умер Шура Тимофеевский. Я был в это время в больнице после операции, поэтому наш разговор с Аркадием получился коротким и грустным. И даже что-то вроде отдаленно похожее на зависть мне вдруг послышалось в его голосе. Вот, мол, повезло, не хотел Шура доживать до бедной, неопрятной старости и не дожил. Потом он повторит это другими словами в своем предисловии к книге Василия Розанова «Итальянские впечатления», которое посвятит памяти Тимофеевского. «Оставив других страдать, он от страданий избавился, избежав старости и немощи, которых, как и все мы, очень боялся. Похороны состоялись 14 апреля, как раз в тот день, когда карантин накрыл Москву и выезд-въезд из нее был запрещен. Многие поэтому не то что не смогли, не могли приехать. В том числе и я».
Последние полтора года наши звонки друг другу и письма становились все реже. Голос в трубке звучал все глуше и безнадежнее. Лгать и бодриться не хотелось. Но мы старались, как могли, утешать и поддерживать друг друга.
Аркадий успел закончить отбор картин для выставки в Нижнем Новгороде и придумал для нее название «Русская ярмарка. Торг. Гулянье. Балаган». В одном из последних писем признался: «С выставкой много работы будет. Жирные бабы в цветастых платках, звонки-перезвоны, тупое православие и заросшее бородами купечество с мутными, дугинскими глазами – об этом ли нам рыдать? Про это должна быть выставка».
Рыдающим Аркадия я видел лишь однажды, когда в Москве в церкви Вознесения на Большой Никитской отпевали нашего друга художника Сашу Белослудцева. Он умер совсем молодым. Непонятная, трагическая, ненужная смерть и, как потом выяснилось, первая в череде многих других. Мы стояли плечом к плечу, обжигая пальцы о воск, капавший с поминальных свечек под заупокойные молитвы и псалмы. А когда запели «Со святыми упокой», Аркадий заплакал.
И эти слезы, по-детски безудержные и какие-то отчаянные, так не вязались с его привычной каренинской сухостью, петербургской выправкой и сдержанностью. В этот момент я так явственно увидел перед собой того самого мальчика, заблудившегося в районе Кастелло, или испуганного подростка, случайно задевшего императорский китайский гонг в эрмитажном зале. На самом деле он никуда не делся, этот грустноглазый, застенчивый мальчик, хотя все его давно звали по имени-отчеству, восхищались его просвещенностью и талантом, завидовали ему, влюблялись в него, страдали из-за него.
А он стоял в сумраке храма с заплаканным, запрокинутым к свету лицом, и всем своим существом, всем обликом казался олицетворением молитвы: «Из глубины взываю к тебе, Господи».
Мы так и не узнаем, когда умер Аркадий. 2 ноября, когда в последний раз его видели в Эрмитаже и как он пересекал Дворцовую площадь, перегороженную к празднику Народного единства? Или 3 ноября, когда я, отчаявшись дозвониться до него, отправил эсэмэску Любе Аркус с просьбой узнать, что с ним и почему он не отвечает? Или 4-го, когда Люба, которая сама в те дни находилась на съемках нового фильма, связалась с Данилой и попросила его срочно приехать в Петербург, а тот ее стал убеждать, что такое часто бывает – папа наверняка потерял мобильный?
Теперь все это уже не имеет значения. Важно только то, что самый плохой сценарий, который Аркадий предвидел и через который однажды прошел сам, был уготован его обожаемому сыну. И, конечно, я никогда не прощу себе, что меня не было с ним рядом.
После заупокойной службы в Конюшенной церкви, собравшей самых достойных людей Петербурга, похоронный минивэн с гробом отбыл в направлении крематория без сопровождающих. Это была воля Аркадия. Он хотел в одиночестве пересечь Дворцовый мост. Безымянный водитель как Харон перевез его через Неву-Стикс. Жил один, умер один и ушел один.
А мы? Мы остались, чтобы оплакивать его, перечитывать его эссе и книги, устраивать выставки, проводить вечера его памяти. Через полгода при разборе содержимого его компьютера я обнаружил несколько готовых глав из его недописанной книги о Риме. Они были прекрасны. Тогда у нас вместе с Аллой Мотиной, многолетним редактором его книг и моей дорогой подругой, возникла идея, что их надо непременно издать. Он столько сил на них потратил. И это были последние страницы, которые остались лежать на подлокотнике его старого ободранного кресла в квартире на Невском. Увы, на целую книгу они бы не потянули, поэтому с позволения правообладателей пришлось добавить еще четыре вступительные статьи, взятые из каталогов к его выставкам. Из этих его текстов, а также из фотографий Дмитрия Сироткина и сложилась «Последняя книга» Аркадия Ипполитова.
«Вид из окна»… Именно так я хотел назвать первую выставку, открывшуюся в KGallery на Фонтанке, в день рождения Аркадия 26 марта 2024 года. Но потом мы остановились на «Melancholia» по названию гравюры Дюрера, которую он почитал и любил. А вот собственный ДР он не слишком-то жаловал. «…Я свой питерский ноябрь ненавижу, хуже только питерский март, месяц моего рождения». За тридцать лет нашего знакомства он отмечал его буквально считаные разы. Но в марте 2019 года мне пришел имейл с чудесным фото, сделанным Данилой, где Аркадий был запечатлен вместе с мамой Данилы Дуней Смирновой за праздничным столом. Подпись гласила: «Семейный портрет в интерьере». Снимок излучал покой и счастье. Значит, и такое возможно, с тайной надеждой подумал я. Значит, можно жить, как живут все. Значит, и ему дано быть веселым, легким, беспечным, отмечающим свой день рождения вместе с сыном и женой, пусть даже и бывшей!
Впрочем, гораздо привычнее для Аркадия была другая мизансцена,