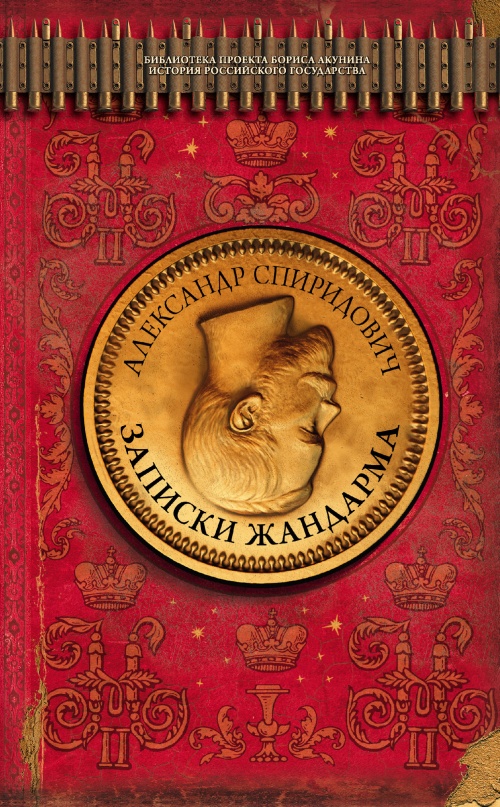Ознакомительная версия. Доступно 38 страниц из 190
Генуе мы уже говорили. Но интригующий сюжет начался после подписания Версальского мира. Одним из главных результатов Версаля была изоляция Германии и ее международно-политическое унижение. В отличие от Второй мировой войны Германия в Первой мировой не совершала преступлений против человечества, она просто проиграла войну и оказалась побежденной.
На нее наложили контрибуцию, изолировали экономически и политически. Как очень скоро оказалось, решения Версаля посеяли семена реваншизма. Фактически вплоть до начала 1930-х годов идея пересмотра Версальских решений составляла центральную задачу немецкой внешней политики и отвечала настроениям германского общества.
Другой общенациональной задачей было стремление вывести Германию из изоляции. И в этом раскладе единственным решением для Германии было сближение с Россией.
Их судьбы в начале 1920-х годов были в значительной мере похожи. Обе страны находились в положении изоляции. Советская Россия стремилась получить признание других стран и восстановить свой статус крупной европейской державы. Те же цели влияли на политику и действия Германии.
И в этой ситуации приходят на память многочисленные исторические примеры взаимодействия двух крупнейших стран Европы. Ситуацию подробно анализировали в Берлине и в Москве и начали зондировать возобновление контактов и возможность соглашения, может быть, даже в рамках конференции в Генуе.
По дороге в Геную советская делегация сделала остановку в Берлине, где фактически были оговорены содержание и условия возможного двустороннего соглашения. Выделенные эксперты договорились согласовать детали, которые было решено озвучить в ходе конференции в Генуе.
В результате в течение нескольких дней текст советско-германского договора был согласован. А дальше происходило то, что может быть интересным не только в контексте событий того времени, но и для современных реалий.
Когда слухи о советско-германских контактах начали просачиваться, реальный лидер западноевропейских стран британский премьер-министр Д. Ллойд Джордж решительно вмешался в события. Возможное сближение и даже соглашение Германии и России абсолютно не устраивало Британию и их союзников, поскольку подрывало концепцию изоляции и Германии, и России, особенно в условиях, когда Англия и Франция претендовали на господствующее положение в Европе.
В немецкой делегации царила обстановка, близкая к панике. И здесь проявились особенности и потенции дипломатов новой России.
Ночью в резиденции немецкой делегации проходило срочное заседание, получившее название «пижамного» (участники встречи были в ночных пижамах). Глава делегации министр Вальтер Ратенау информировал о звонках Ллойда Джорджа и его требовании прекратить связи с Москвой. Судя по мемуарам некоторых немецких участников, руководство делегации не знало, что делать, опасаясь резких действий Великобритании и ее союзников.
И в этой драматической ситуации последовал звонок главы советской делегации Г.В. Чичерина, который успокаивал Ратенау и говорил ему, что Ллойд Джордж ничего сделать не сможет и будет вынужден принять то, что произойдет. После долгих дебатов немецкая делегация и ее шеф согласились, что общая выгода от договора с Россией явно превышает «угрозы» английского премьера.
В итоге в небольшом местечке Рапалло 16 апреля 1922 года был подписан договор, который был выгоден обеим сторонам – они выходили из изоляции, принципиально повышали свои позиции и статус в европейских делах. Германия признавала советскую Россию как законного преемника старой России; было предусмотрено развитие экономических и прочих контактов. Важным дополнением к договору стало «военное соглашение», предусматривающее довольно тесное сотрудничество в военной сфере, просуществовавшее до начала 1930-х годов.
Рапалльский договор подтверждал идею об особенной роли в Европе двух крупнейших держав, России и Германии, и влияния их сотрудничества или взаимодействия на состояние международных дел в Европе. Повторим, нынешняя ситуация в Европе принципиально иная, чем почти 100 лет назад, но учет исторического опыта и обращение к таким событиям как, например, Рапалльский советско-германский договор 1922 года важен не только для профессиональных историков, но и для оценки современного положения в Европе.
Драма 1938–1941 годов. Канун трагедии
В течение нескольких лет мои научные интересы были обращены на предысторию Второй мировой войны, а точнее на события 1938–1941 годов. Внимание к этой тематике появилось еще в 1980-е годы, с того времени, когда я стал членом советско-польской Комиссии историков, изучавшей начальный период Второй мировой войны.
С советской стороны Комиссию возглавлял тогда директор Института марксизма-ленинизма профессор Г.Л. Смирнов. Это был истинный партийный функционер высокого класса. Помню, что в острых непростых дискуссиях советские представители избегали обсуждения еще не признанного нами секретного приложения к так называемому пакту Молотова-Риббентропа и, разумеется, катынского дела.
Но именно тогда я почувствовал интерес к этой проблематике. Прошло несколько лет, и я снова столкнулся со всей этой историей. Я уже писал об этом – речь идет о крупной международной конференции в 1989 году, тогда еще в Западном Берлине, посвященной 50-летию советско-германского пакта 1939 года.
Затем последовало мое включение в число экспертов Комиссии А.Н. Яковлева, которая готовила постановление об упомянутом пакте. В те времена Съезд народных депутатов осудил «факт подписания “секретного дополнительного протокола” от 23 августа 1939 года и других секретных договоренностей с Германией», рассматривая его как пример нарушения международного права, имея в виду прежде всего судьбу стран Балтии и других стран.
В начале 1990-х годов в Латвии начала работать международная Комиссия, снова имевшая главной целью изучение событий 1939–1941 годов. Меня пригласили войти в состав Комиссии, и я, как уже писал ранее, по согласованию с тогдашним министром иностранных дел И.С. Ивановым, дал согласие.
Комиссия заседала практически каждый год, я регулярно ездил в Ригу и снова оказался в курсе оценки событий 1939–1941 годов.
Одновременно во многих странах, в том числе и в России, проходили международные встречи по этой проблеме. Во многих из них я участвовал или был в курсе их содержания и итогов.
Любопытно, что историки и политологи ведущих западных держав (США, Англии, Франции, Италии и другие) мало специально интересовались этой проблематикой. Даже немецкие ученые были довольно сдержаны в своих оценках.
В основном события 1939–1941 годов были приоритетными темами для историков, общественных и политических деятелей, для средств массовой информации стран Балтии, Польши, Румынии.
И, соответственно, в содержательном плане все труды ученых этих стран отстаивали и пропагандировали схожую точку зрения. Они оценивали советские действия и сам германо-советский пакт и его последствия как советскую оккупацию, причем, по мнению многих адептов этой точки зрения, период советской оккупации длился с 1940 по 1991 год.
Если говорить о международной Комиссии в Риге, то мне в итоге пришлось выйти из нее, поскольку ее руководство не хотело принимать мои предложения о содержании работы Комиссии.
Все эти события подогревали мой интерес к проблематике предыстории Второй мировой войны.
Но к международной стороне дела добавлялись внутренние дискуссии в России. Многие российские историки, политологи одобряли линию Сталина на
Ознакомительная версия. Доступно 38 страниц из 190