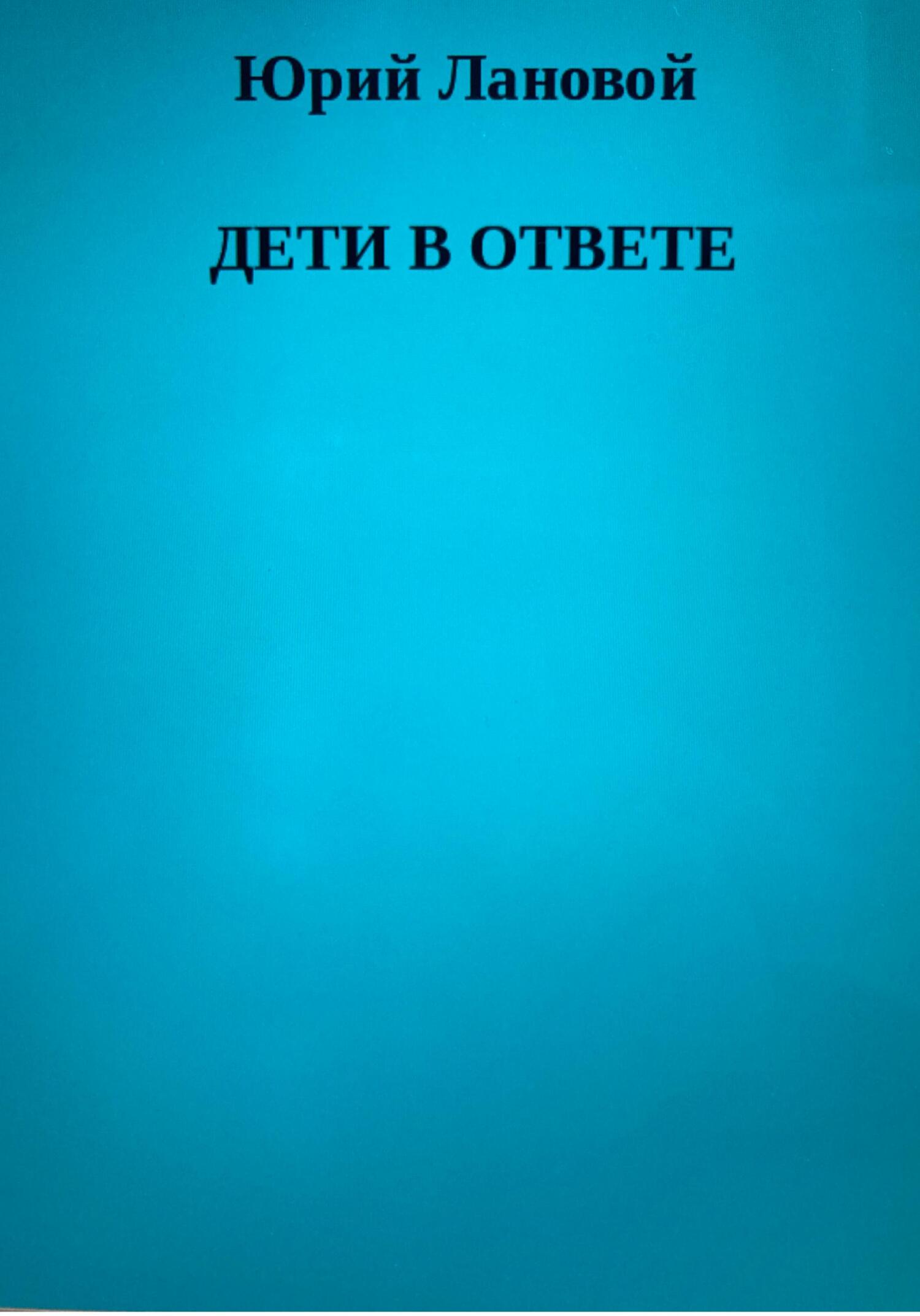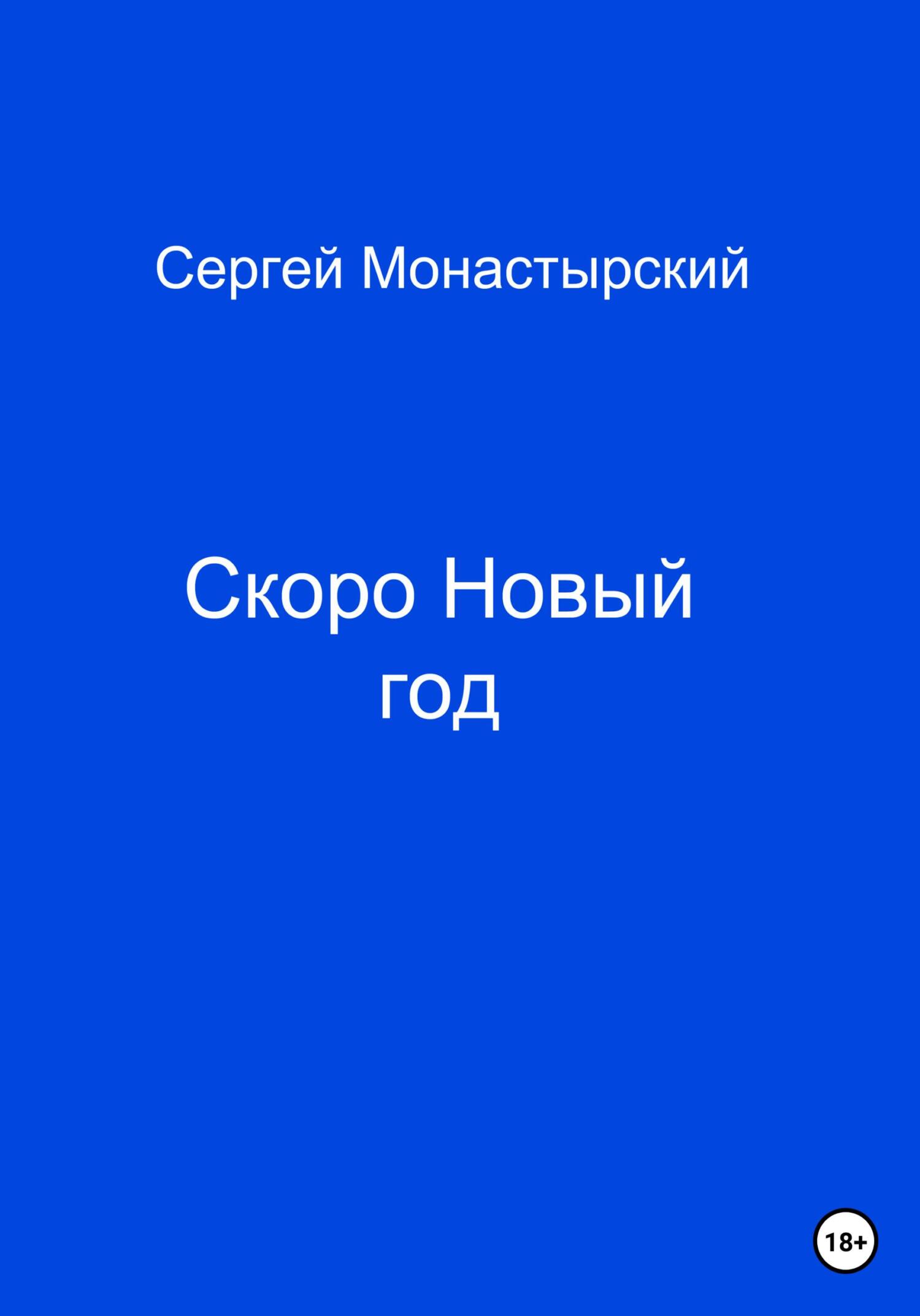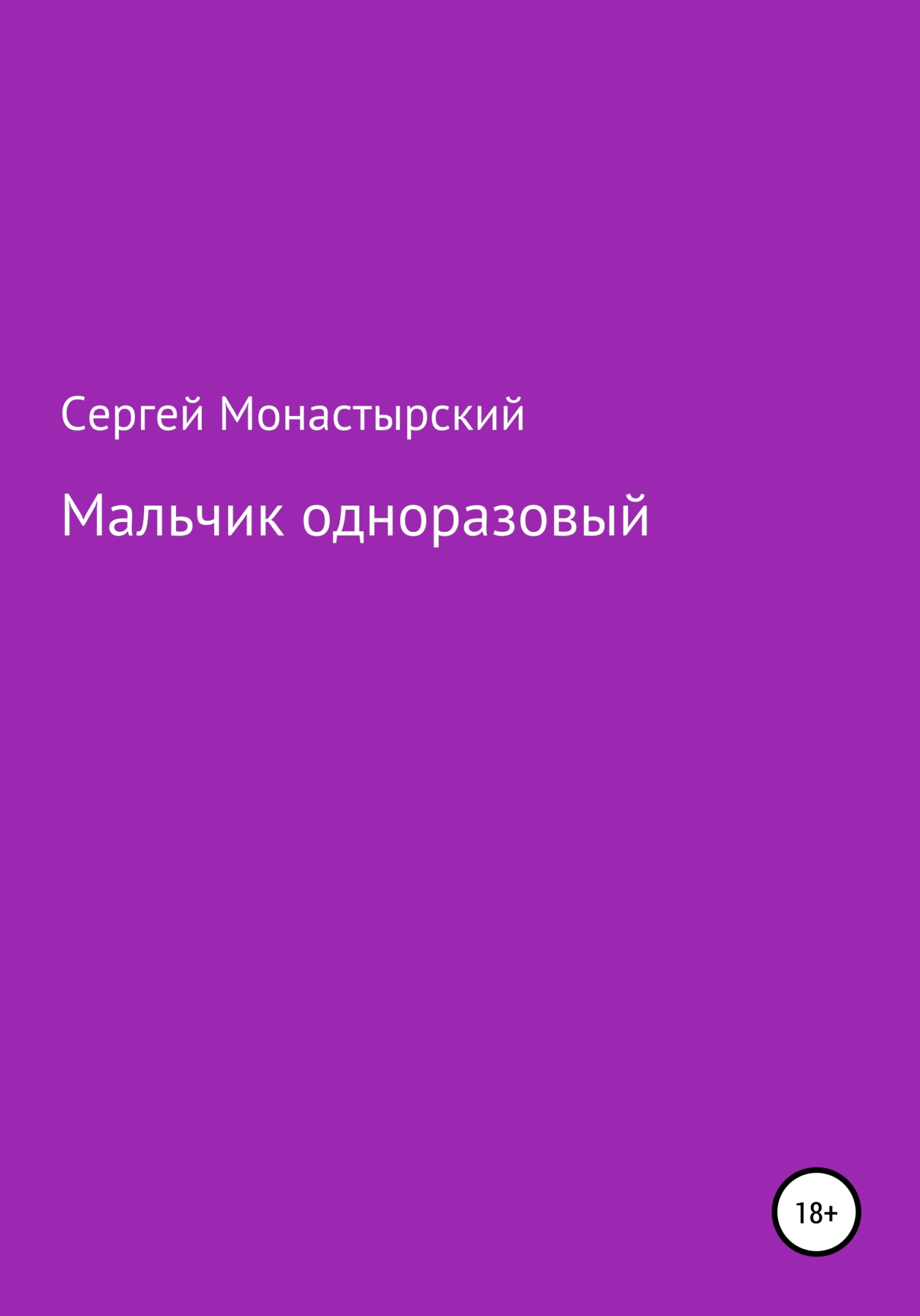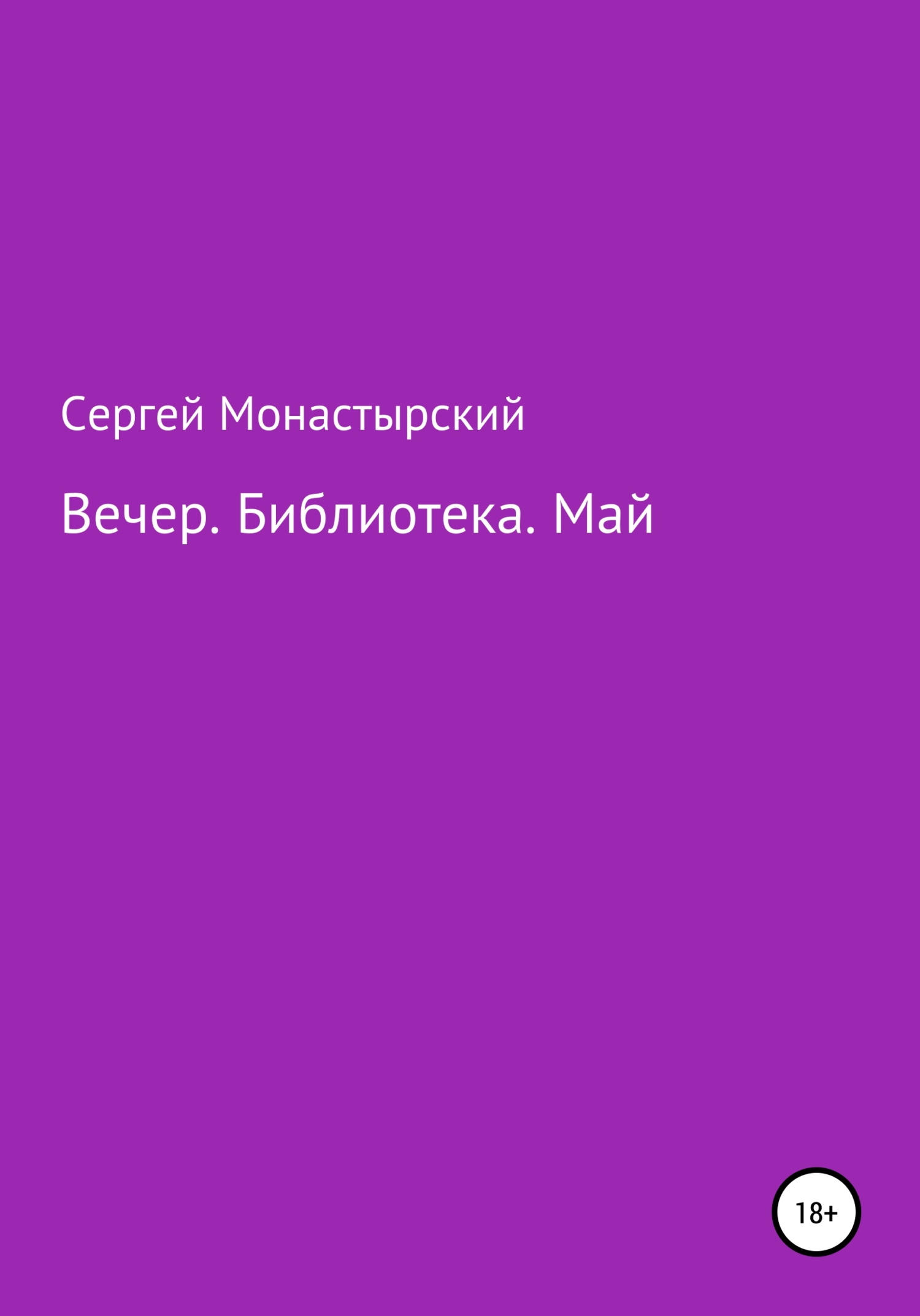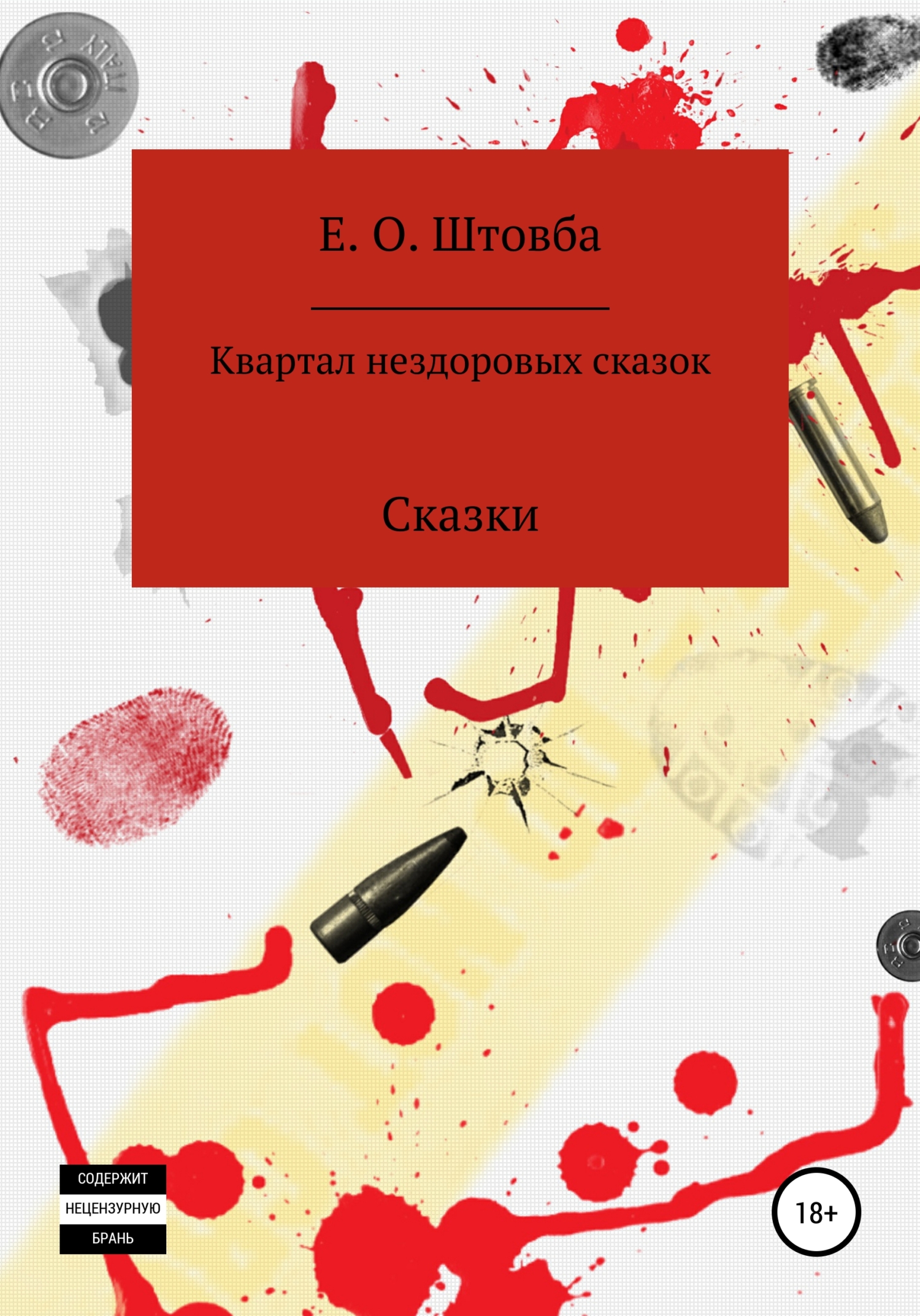всю правду… Тебя учителя не любят, выдумывают на тебя, да? Для других делают, другим всё прощают, с другими дополнительно занимаются, а с тобой не хотят… Мне нм платить нечем…
Так и у директора с этой матерью никакого разумного разговора не получилось. И, конечно, не по вине директора школы. Каким ужасным был этот крик матери, обращенный к сыну-пятикласснику:
— Ты их не бойся!
Кого это — их?
И не собственная ли мать страшнее всего для этого школьника, собственная мать, не способная понять, не желающая понять, в чем ее беда?
* * *
Можно бы, конечно, в связи с поведением пятиклассника и позицией его матери поставить ряд вопросов: о связи школы с семьей, о педагогическом просвещении родителей, о воспитании у школьников обязательной дисциплины и чувства ответственности… Всё же я думаю, что для этой матери самое главное заключается в том, чтобы перемениться, стать другой, стать лучше. Пока она этого не поймет, ей будет всё труднее и труднее — и с другими людьми, и с собственным сыном. Но как ее убедить, что она должна перемениться — и в собственных интересах и в интересах сына, которого она несомненно любит?
Иногда надо решиться на прямой и строгий разговор с такими родителями, сказать им в лицо:
«Вся беда в том, что вы сами плохо воспитаны…»
Л подчас еще резче:
«Вся беда в том, что вы — плохие люди…»
В самом деле, мы как-то научились говорить о том, какие требования следует предъявлять к детям. Но необходимо еще говорить и о том, какие требования взрослые должны предъявлять к себе.
Можно ли научить ребенка уважать собственных родителей в семье, где никогда ни одного доброго слова не говорят о других — о соседях, сослуживцах: все плохи, пет честных, пет добрых людей. И вот капля за каплей в душу ребенка вливается яд.
— Что ж, говорит такая мать в ответ на упреки, я ему только раскрываю глаза на людей, на собственный дурной опыт, а подчас и собственный дрянной характер оказывают таким взрослым скверную услугу — помогают воспитывать молодых циников. И придет день, когда матери, отцу будет страшно взглянуть в пустые глаза сына.
Как может расти настоящий, сильный, морально чистый человек в семье, где, к примеру, постоянно рассказывают грязные и глупые анекдоты, где все разговоры — о деньгах, о вещах?
Видел я на улице, как беременная женщина, будущая мать, поддерживала пьяного мужа. Он то накаливался на нее всей тяжестью, то падал, и она изо всех сил, напрягаясь, старалась его удержать. А он изрыгал грязную, нелепую ругань. Как тут было не подумать о том, что вот этот человек — отец еще не родившегося ребенка. И вот ребенок родится, войдет в наш большой, сложный, прекрасный и трудный мир, а он, этот человек с бессмысленным взглядом, с обслюнявленным ртом, будет властен над малышом, будет всегда рядом. Кормилец. Поилец. Защита. И воспитатель?…
Есть люди, которые очень любят твердить о распущенности молодежи.
Такие общие и категорические утверждения, попросту говоря, и несправедливы и бессмысленны…
Знал я одного школьного директора, который иначе нс называл своих старшеклассников, как орлами.
— Орлы! — восклицал он в школьном коридоре при встрече со старшеклассниками.
И тут же удалялся в свой кабинет. Подальше от орлов, которые вовсе не были орлами, а были людьми, и, конечно, разными.
Нет ли и в первых и во вторых чрезмерных обобщениях стремления уйти от ответственности за воспитание, умыть руки? Если действительно все плохи, тогда ничего нельзя сделать, тогда каждый из нас ни при чем. И точно так же, если все дети хороши, а все юноши — орлы, тогда чего же и беспокоиться?
Только на расстоянии, только для равнодушных дети, молодежь, все — на одно лицо. Вблизи, когда мы внимательны и заинтересованы, они все — разные. Одни из них — трудные. Их сравнительно немного, но они нам очень досаждают, они бросаются в глаза дурным поведением, неуважительным отношением к окружающим и окружающему. Другие, — их несравненно больше, — любознательные, ищущие, благородные. Бывает и так, что один и тот же подросток в течение дня бывает и плохим и хорошим.
Но что если нам поговорить также о том, каковы некоторые взрослые? В самом деле, очень многое в поведении ребенка, во всей его судьбе, зависит от того, каков взрослый, который находится с ним, ребенком, рядом. Как много зависит от этого человека — отца, матери, соседа, знакомого!..
Ребенок никогда не живет сам по себе.
Он всегда в чьих-то руках — добрых или злых, умных или глупых, ласковых или равнодушных, сильных или слабых.
Я часто слышу такие разговоры:
— Надо всегда и во всех случаях поддерживать авторитет родителей… Вот дети слышали радиопередачу для родителей, в которой говорили об ошибках взрослых… Какой ужас!..
Ужасны ошибки, прежде всего они. И всё, что может помочь взрослым, родителям, избавиться от ошибок, — только на пользу, только укрепит их авторитет.
Как тут не вспомнить слова Добролюбова: «…не лучше ли с самых первых лет приучать ребенка к разумному рассуждению, чтобы он как можно скорее приобрел умение и силы не следовать нашим приказаниям, когда мы приказываем дурно?».
Думаю, что это сказано и хорошо и точно.
Разве слова Добролюбова являются покушением на родительский авторитет, на авторитет старших? Разве в них содержится призыв к детскому непослушанию? Нет, здесь другой призыв — призыв не приказывать детям дурно, не пользоваться своей — родительской властью во вред воспитанию нового человека.
Взрослые должны стараться быть всегда на высоте положения.
Вот мы огорчаемся, что среди молодежи иногда еще встречаются лодыри, бездельники, тунеядцы. Мы называем их по именам, называем и их родителей. Да, в этих случаях, как правило, не трудно установить, что причина зла, его истоки, кроются в неразумном семейном воспитании. Так не следует ли подчас нашим общественным силам более резко вмешиваться в семейное воспитание, решительнее рвать в этих случаях замкнутый круг эгоизма и заблуждений? И нужно ли бояться говорить об этом?
Взрослая девушка, ученица десятого класса (я знаю такой случай), когда с ней случилась большая личная беда, пришла за советом, за помощью к учителю. Но она не пришла ни к отцу, ни к матери; никак, несмотря на уговоры учителя, не могла решиться на откровенный разговор с ними. «Нет и нет, — говорила она, — не могу! Они всё равно не поймут. Они не понимают ни меня, ни моей жизни. Мы очень далеки друг от друга».
Оказывается, что