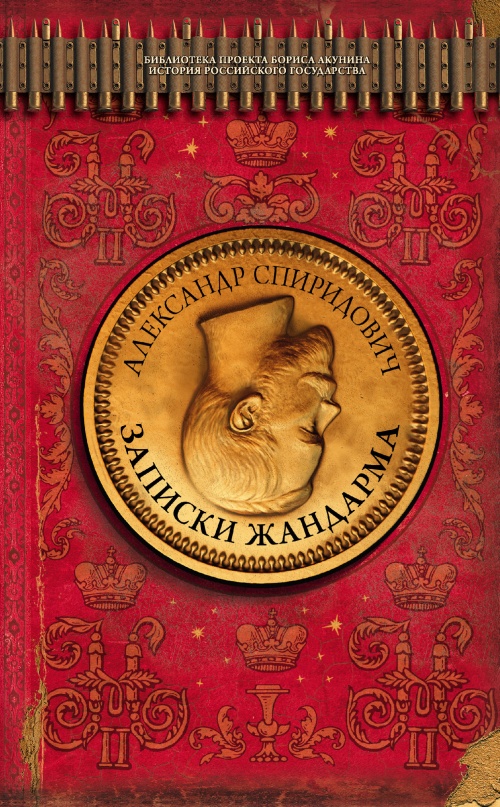Ознакомительная версия. Доступно 38 страниц из 190
полярные и крайние точки зрения, которые, казалось, были абсолютно несоединимы.
Однако в результате оживленных дискуссий были найдены близкие и компромиссные формулировки. Впрочем, этот пример не очень показателен, поскольку главные противоречия по теме предыстории Второй мировой войны возникают на международной арене.
Многообразный опыт российской и мировой истории дает, как мне кажется, основания для использования многофакторного подхода.
Сфера внешней политики и дипломатии в этом отношении особенно показательна. Рассматриваемый нами период характерен как раз столкновением самых разных и весьма противоречивых тенденций и факторов. Интересно, что в этих противоречиях и столкновениях тесно переплетались факторы не только геополитические и дипломатические, но и исторические, внутриполитические, проблемы права и морали.
Не будем забывать и о том, что развитие событий в 1939–1941 годах имело очевидный общемировой контекст. На повестке дня была и борьба за мировое господство, и за европейские приоритеты; но в очевидной форме проявлялось столкновение концептуально-общественных тенденций.
Москва оказалась в эпицентре событий, что делало ситуацию весьма сложной и противоречивой, учитывая отношение к «социалистическому» Советскому Союзу в мире, особенно в кругах общественности Европы.
Добавим сюда роль грандов европейской политики – Великобритании и Франции, рвущуюся к мировому господству нацистскую Германию и т.п.
Все это создавало крайне сложный расклад событий, столкновение самых разнообразных факторов и тенденций, и для меня становится очевидной возможность и, вероятно, даже необходимость многофакторного решения.
Хочется добавить еще одно обстоятельство, чисто дипломатическое. Дипломатия повсюду и всегда имеет свои особенности и свою логику поведения, причем часто это не полностью зависит от общих внешнеполитических целей и внутреннего развития той или иной страны.
В фокусе нашего внимания должна быть и деятельность советской дипломатической службы. Она претерпела серьезные перемены после чисток 1937–1938 годов, когда в Наркоминдел пришли новые люди. И именно они приняли активное участие в сложных перипетиях 1939–1941 годов.
Следует подчеркнуть, что многоплановое исследование требует комплексного подхода, соединение факторов социально-политических, дипломатических и даже индивидуальных психологических.
Рассматривая сегодня свою монографию, многочисленные статьи и выступления на конференциях, я прихожу к выводу, что многофакторный метод дает хорошую возможность понять истинные мотивы и логику поведения всех участников той драмы, которая развернулась на мировой арене в 1938–1941 годы.
* * *
Многочисленные публикации прошлого и недавнего времени показывают, что решение в Кремле о контактах с Германией берет свое начало после сентября 1938 года, т.е. после известного мюнхенского соглашения Англии, Франции, Германии и Италии.
Причем мы имеем в виду не только политический и нравственный смысл Мюнхена, а еще то, как это было оценено и воспринято в Москве.
Известно, что в начале 30-х годов ХХ столетия советская дипломатия взяла курс на сотрудничество с западными демократиями, прежде всего с Францией и Чехословакией. СССР вступил в Лигу Наций. Но уже в начале второй половины 30-х годов стали очевидны нереальность и иллюзорность возможности какого-либо союза на антинацистской основе в значительной мере из-за изменения позиции Франции и противодействии Англии.
И в реальной политике, и в пропаганде в Москве явно преобладала критика фашизма. На международном уровне в Москве осудили и аншлюс Австрии Германией, и захват Абиссинии Италией – союзником гитлеровской Германии.
Было очевидным, что нацистская Германия рассматривалась в Москве как главная угроза для страны Советов. В этой общей расстановке для Москвы было также ясно, что необходимо препятствовать включению стран Восточной Европы (прежде всего Польши, Прибалтики и Финляндии) в зону влияния Германии. В этом контексте понятно то недовольство, которое вызывали в Москве любые факты о связях этих стран с Германией.
Следующий важный момент состоит в том, что в Москве на протяжении 1920-х и 1930-х годов постоянно витала мысль об угрозе объединения капиталистических стран против СССР (конкретно речь шла и об англо-французском соглашении с нацистской Германией, и о политике «малых стран» Восточной Европы и т.п.). Синдром антисоветской коалиции был некоей константой в политике и в умонастроении советских руководителей.
Подобные настроения имели объективную почву. После революционных событий в России в 1917 году и установления советской власти, несмотря на восстановление дипломатических отношений и многочисленные контакты, идеологическое неприятие советской власти существовало и влияло на политику и настроения в странах западных демократий.
И это прекрасно понимали советские руководители.
Вот в такой обстановке происходит конференция в Мюнхене, где лидеры Англии и Франции сговариваются с Гитлером, получившей название политики «умиротворения». В Москве расценили Мюнхен как очевидное свидетельство изоляции Советского Союза. И в этом смысле отклик в Москве был связан не только с судьбой Чехословакии. Опасения о возможности объединенного антисоветского блока, казалось, получили подтверждение.
Результатом была еще не смена вех, но повод к возможной модификации советского внешнеполитического курса. Учитывая закрытость советского общества и особенности принятия внешнеполитических решений, возможность перемен официально не обсуждалась ни на заседаниях Политбюро, ни в телеграммах из Берлина.
Новые подходы могли рассматриваться в Москве и как следствие изменения реальной обстановки, и как некая аналогия с событиями 1922 года – советско-германского соглашения в Рапалло.
В глазах мировой общественности осуждались любые связи и контакты с нацистами. Советский Союз ощущал себя как активная антифашистская сила. Но теперь, после Мюнхена, в Москве, видимо, также размышляли о возможности контактов с Берлином.
Настроения и готовность к переменам были понятны в отношении Москвы, но возникает вопрос о намерениях в Берлине. Главной целью нацистских лидеров было мировое господство, в рамках которого покорение России и славянства в целом занимали преобладающее место.
На выставке в Москве в связи 80-летием подписания советско-германского пакта был представлен документ из германского Генерального штаба, датированный июлем 1939 года, с описанием плана действия Германии. В нем не скрывается намерение завоевать господство на европейском континенте. Упомянуты – Польша, Англия, Франция (в 1939 году) и Советский Союз (осенью 1941 года).
Важнейшим долговременным противником Германии всегда (особенно в ХХ столетии) оставалась Великобритания. На основании опыта Первой мировой войны и последующих событий в Германии продолжал существовать «кошмар» войны на два фронта.
В Берлине понимали, что Москва и Лондон будут пытаться договориться, и в этой ситуации, видимо, в Германии также были готовы к возможным модификациям.
Первым сигналом стал, может быть, не столь заметный факт, когда в январе 1939 года на дипломатическом приеме в Берлине Гитлер остановился рядом с советским послом и поговорил с ним, чего ранее не бывало. Ясно, что это был не только жест.
Советское руководство не сразу перешло к новациям во внешнеполитическом курсе. В первой половине 1939 года политика с советской стороны была двойственной. Москва согласилась на тройственные переговоры военных миссий с представителями Англии и Франции. Ход переговоров хорошо известен.
В современной польской историографии не очень хотят признать, что
Ознакомительная версия. Доступно 38 страниц из 190