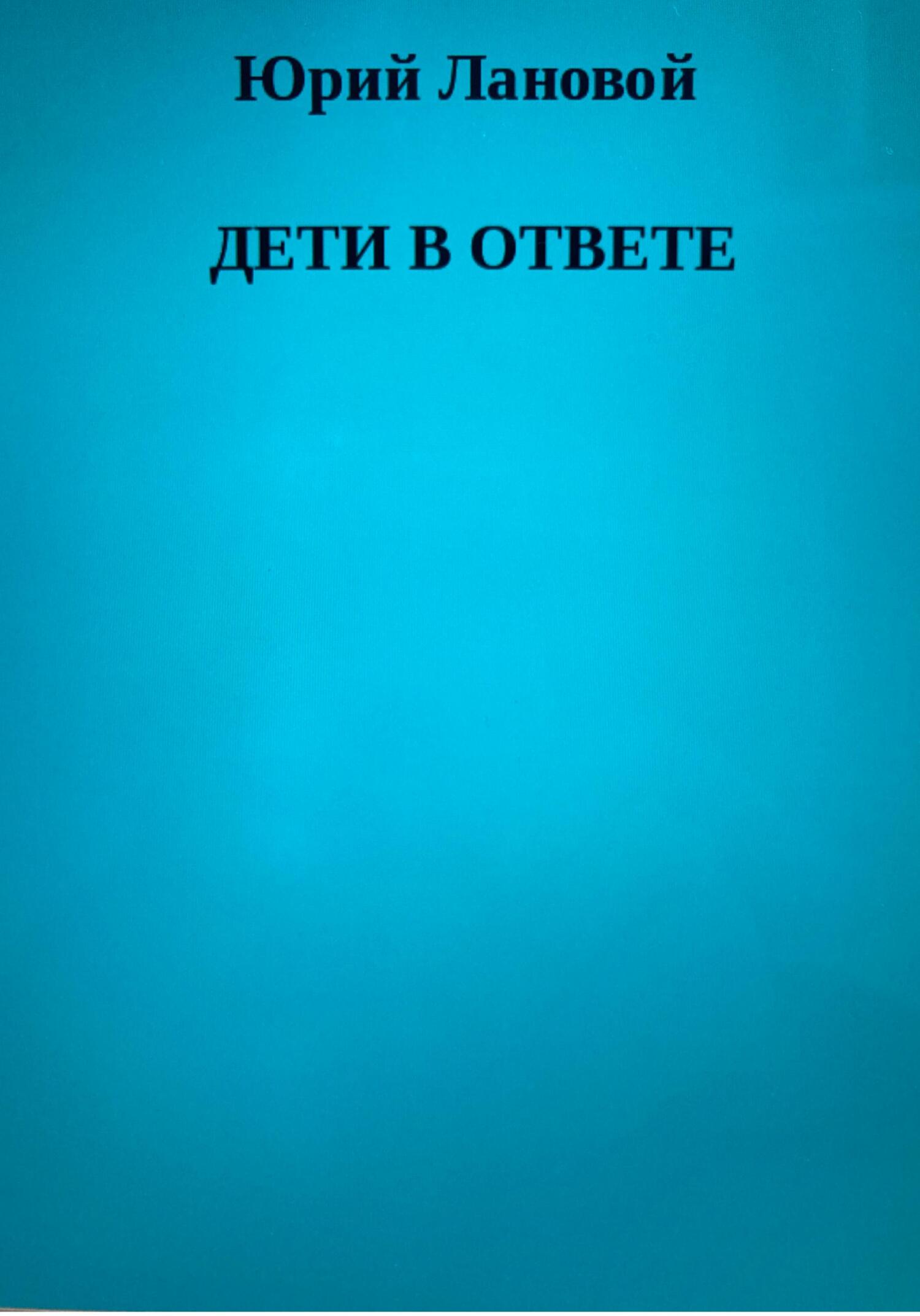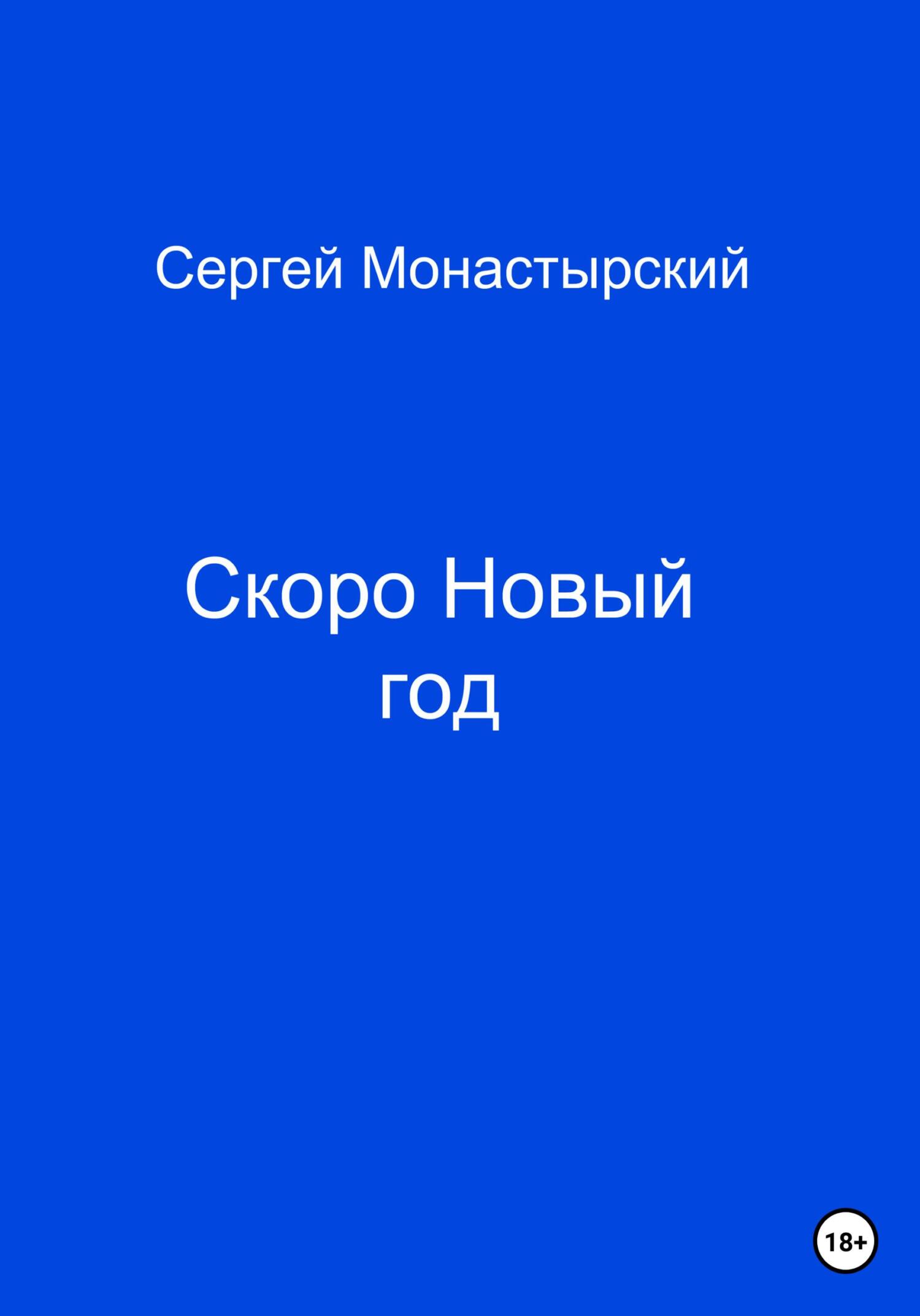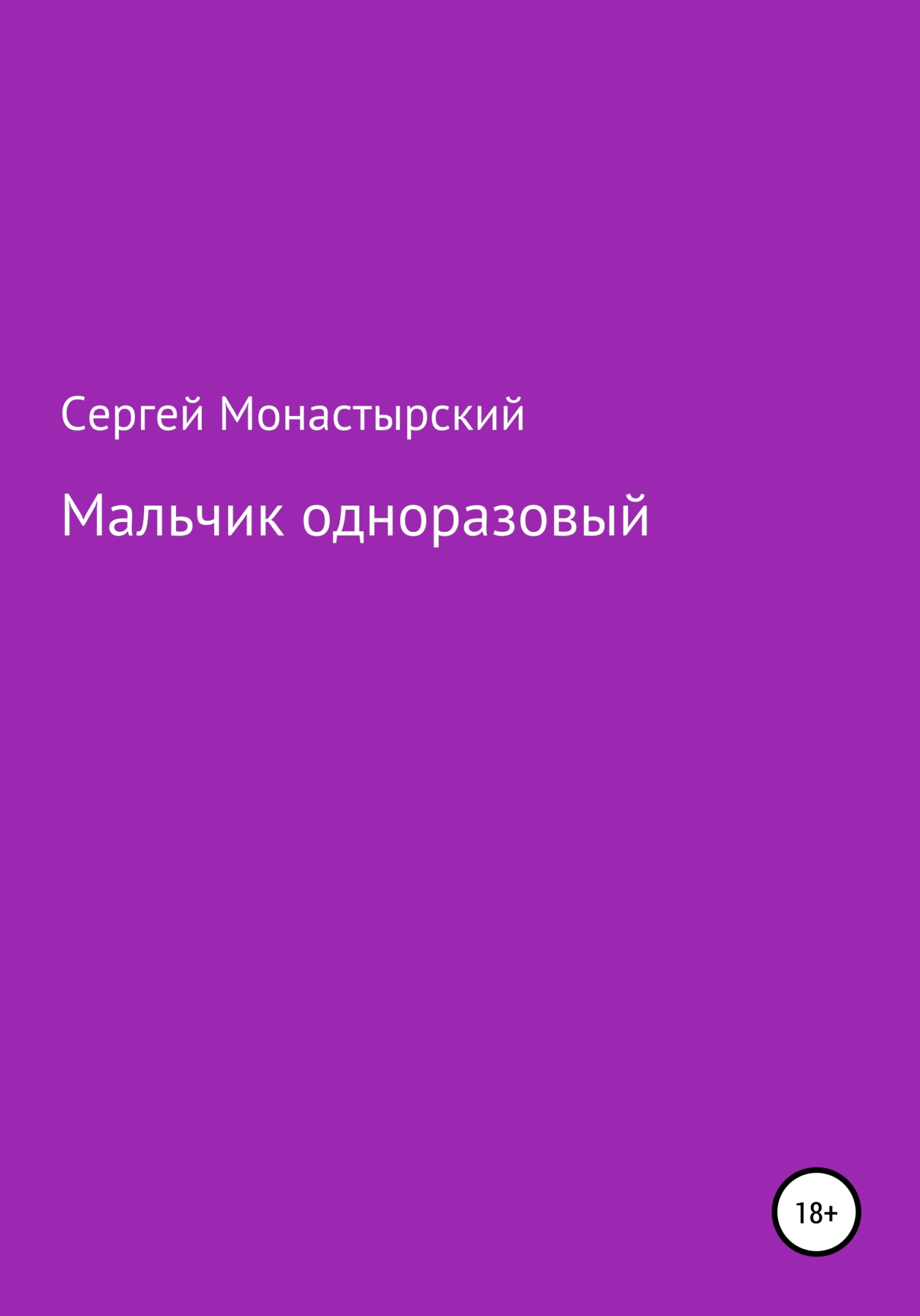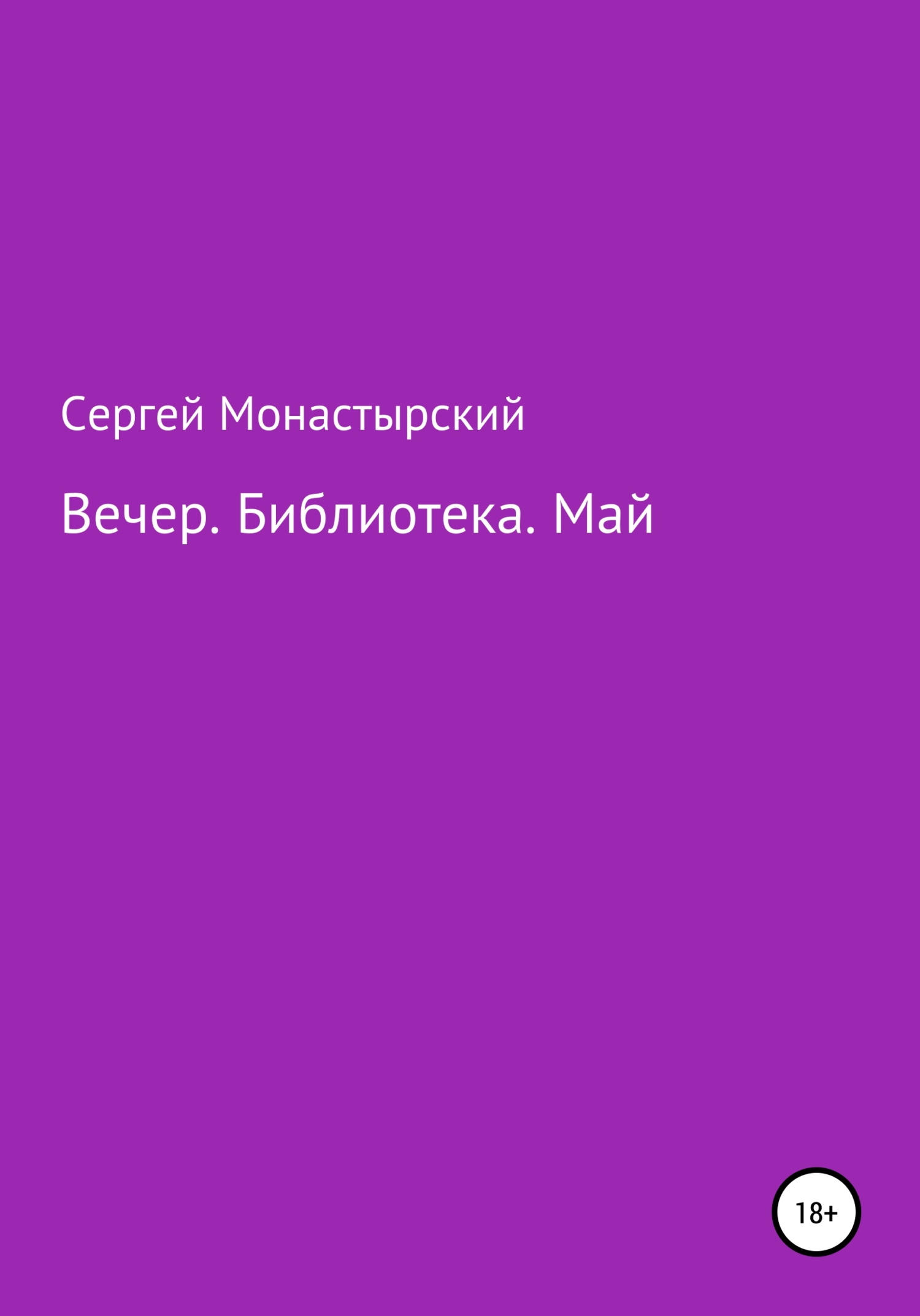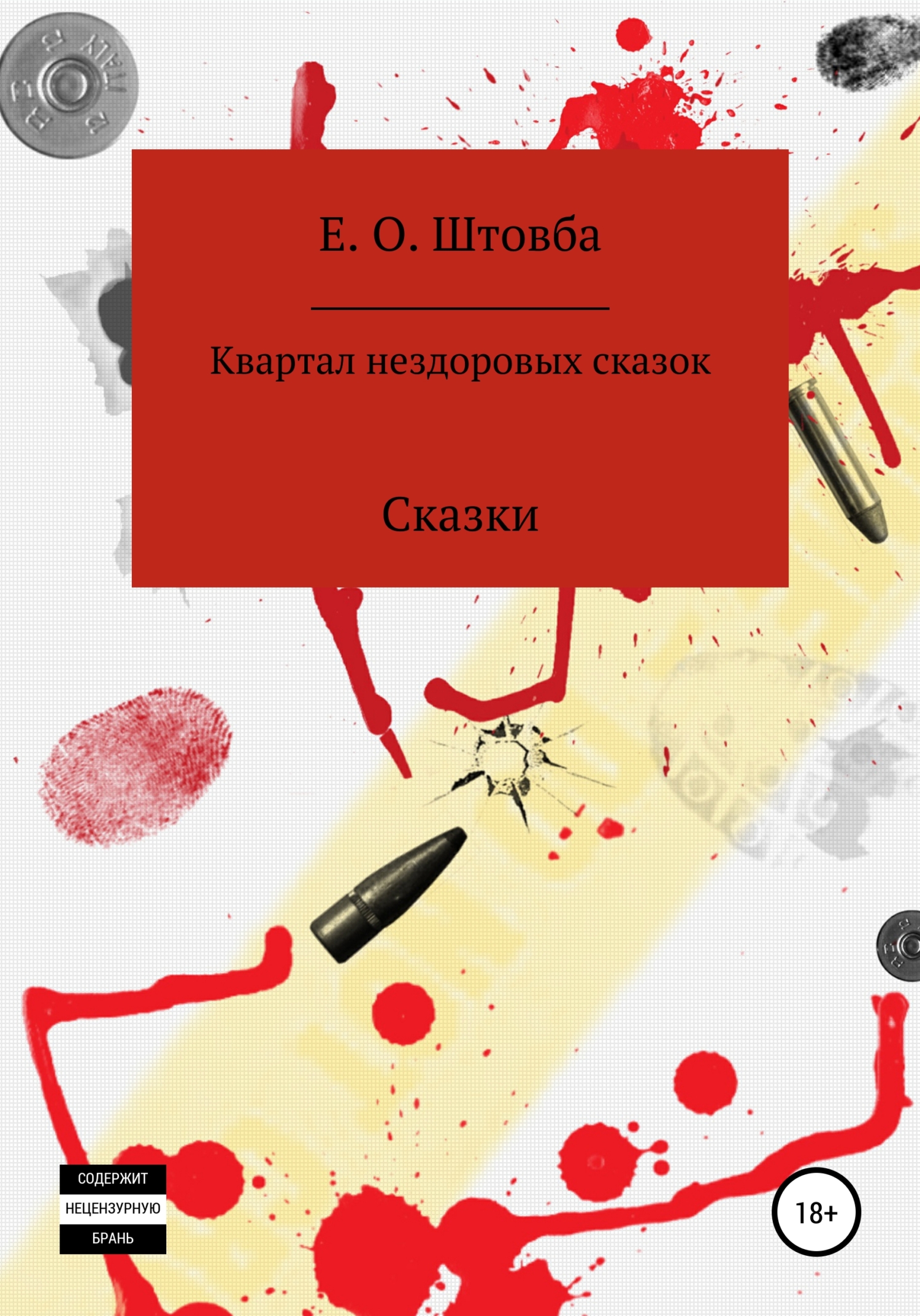зарабатывал, а дети нуждались в присмотре. Рассчитали и решили, что так будет правильно: пока дети маленькие, матери надо смотреть за ними. Это было тем проще решить, что у Екатерины Григорьевны не было никакой специальности, — она работала подсобницей.
После смерти мужа она вернулась опять подсобницей на тот же завод, где работала раньше. Надо было начинать какую-то новую и очень трудную жизнь, без мужа, с двумя маленькими детьми на руках. Как она пойдет теперь, эта жизнь? То, что рядом были дети, нуждавшиеся в ней, в ее помощи, укрепляло решимость. Значит, человек становится сильнее, если он кому-нибудь нужен, — вот какая возникла мысль у матери.
— Знаешь, как мы будем жить? — сказала она старшему мальчику Сереже. — Ты будешь мне помогать… Мне очень нужна будет твоя помощь…
Когда мать посмотрела в глаза сына, в которых так и сияла готовность помочь, сделать всё, что ему скажут, ей стало легче.
Слова о помощи не были игрой, — до игры ли тут? Пока маленькая не была устроена в ясли, Сережа присматривал за ней. Правда, заходили соседи, приглядывали за детьми. Но мальчик чувствовал, что главная ответственность на нем. Когда девочку приняли в ясли, а затем в детский сад, стало немного легче. Но сын всё так же был помощником матери. К ее приходу он старался убрать в комнате, — это не так трудно, если следить за собой, не мусорить, заботиться о вещах. Очень весело протекала у них всегда совместная работа по дому. Как же без Сережи? Без Сережи тут бы не обойтись! И совсем было хорошо и спокойно, когда садились за стол, пили чай, ужинали. Какие разговоры шли тогда о школьных делах, о заводе, о просмотренной в кино картине, о прочитанной сыном книжке…
— Я понимаю, — говорила Екатерина Григорьевна па родительской конференции, — все, кто меня слушает, думают: ну как она могла помогать сыну в его школьных занятиях, если она сама грамоте обучена еле-еле? А вот так и помогала. Приду домой после работы иногда очень поздно, сынишка уже спит, посмотрю в его тетрадь, вижу, что в тетради добавилось что-то новое, что чисто и аккуратно написано, даже красиво, и рада. И он знает, что обязательно посмотрю в тетрадь, и если ничего в тетради не добавилось, ни строчки, на другой день с утра спрошу: «А что у тебя ничего в тетради не написано? Разве ничего не задавали?»
И тут невольно некоторые матери, присутствовавшие на родительской конференции, подумали, что они иногда всю неделю не заглядывают не то что в тетради своих детей, но и в дневники.
А мать продолжает рассказывать:
— Какая же это помощь, если я только смотрю в тетради, в дневник? А очень большая это помощь и очень важный для мальчика контроль. Он знает, что я его делами интересуюсь, что они для меня очень и очень важны, значит… да, значит, они и для него очень важны. Был такой случай, когда он мне сказал, что не успел приготовить уроки. Убирал комнату, потом заигрался, а там и уснул… Как же мне было поступить? Сердиться? Но ведь мог мальчик устать, заиграться? Ведь он действительно убрал комнату, чтобы мне не пришлось убирать, чтобы я пришла в чистый дом. Я ему и говорю: «Ну, раз ты с уроками не справляешься, ты мне больше не помогай, не надо… Тебе, вероятно, трудно. Правда, и мне трудно, но уроки важнее всего. С этого дня — всё! Ты мне больше не помогай! А то какая это помощь, если школе во вред?…» Говорю я это, а он с меня глаз не спускает. Затем спрашивает: «Значит, мам, я тебе больше не помощник?…» — «Нет, говорю, помощник, только уроки надо готовить…»
Екатерина Григорьевна за всё свое выступление ни разу не произнесла таких слов, как любовь, требование, уважение. Она рассказывала о своих отношениях с сыном, и только. Она не произносила и слова «коллектив». Но каждый, кто ее слушал, подумал о ней и детях: вот это — семья!
В самом деле, как много значит в жизни ребенка живой, не надоедливый, а сочувственный и искренний интерес к его делам. Как много теряют родители, которые не заглядывают никогда в тетради ребенка, в его дневник, а если и заглядывают, то не потому, что им это интересно и важно, а для контроля только, для проверки. У Екатерины Григорьевны был живой интерес к занятиям сына. Как бы она ни была занята, она раз в неделю встречалась с учительницей. И она умела по-настоящему, от души порадоваться успехам мальчика, — как хорошо, что он ответил на вопросы! «А ты всё понял? — спрашивала она сына. — Ну вот расскажи и мне…»
Мать звук голоса ловит, нет-нет да и в глаза посмотрит, она радуется так непосредственно и славно, что мальчик счастлив доставить ей эту радость. Интерес матери к школе поддерживал и интерес к ней ребенка.
Какое большое значение имели минуты общего чаепития (разве во всех семьях понимают значение сближающего разговора за столом?)! То мальчик что-нибудь расскажет о школе, о товарищах, и мать переспрашивает, огорчается вместе с ним, радуется вместе с ним, высказывает свои соображения, если с ним не согласна. Она не кричит на него, когда он рассказывает о драке с товарищами, а интересуется: из-за чего же возникла драка? И всегда сумеет так повернуть разговор, что мальчику становится ясно: драки могло и не быть. Иногда мать рассказывает о заводе, и мальчик слушает, — ему интересно.
Как много значит, как много дает это живое общение матери с сыном, как протягивается всё больше и больше нитей от одного сердца к другому, от одного ума, испытанного жизнью, к другому, еще только развивающемуся!
А ведь времени для общения надо совсем немного. Поговорят минут двадцать за столом, и всё. Ведь дел сколько — и уроки, и уборка, и прогулка, и многое, многое другое! Заинтересовался мальчик кружком «Умелые руки», и мать знает об этом, и мать сочувствует. В старших классах стал ходить в музеи, интересоваться искусством, сперва живописью, затем музыкой, и мать рада. Она поддерживала эти интересы. Конечно, и интерес к живописи, и интерес к музыке шли от школы, от товарищей, но ведь многое зависело от нее, от этой простой душевной женщины, от той атмосферы, которая царила в семье.
Вот так она и рассказывала, ничего не приукрашивая, просто об атмосфере, об отношениях в своей семье.
И многие родители задумывались о своей собственной семье: такая ли у них атмосфера, так ли