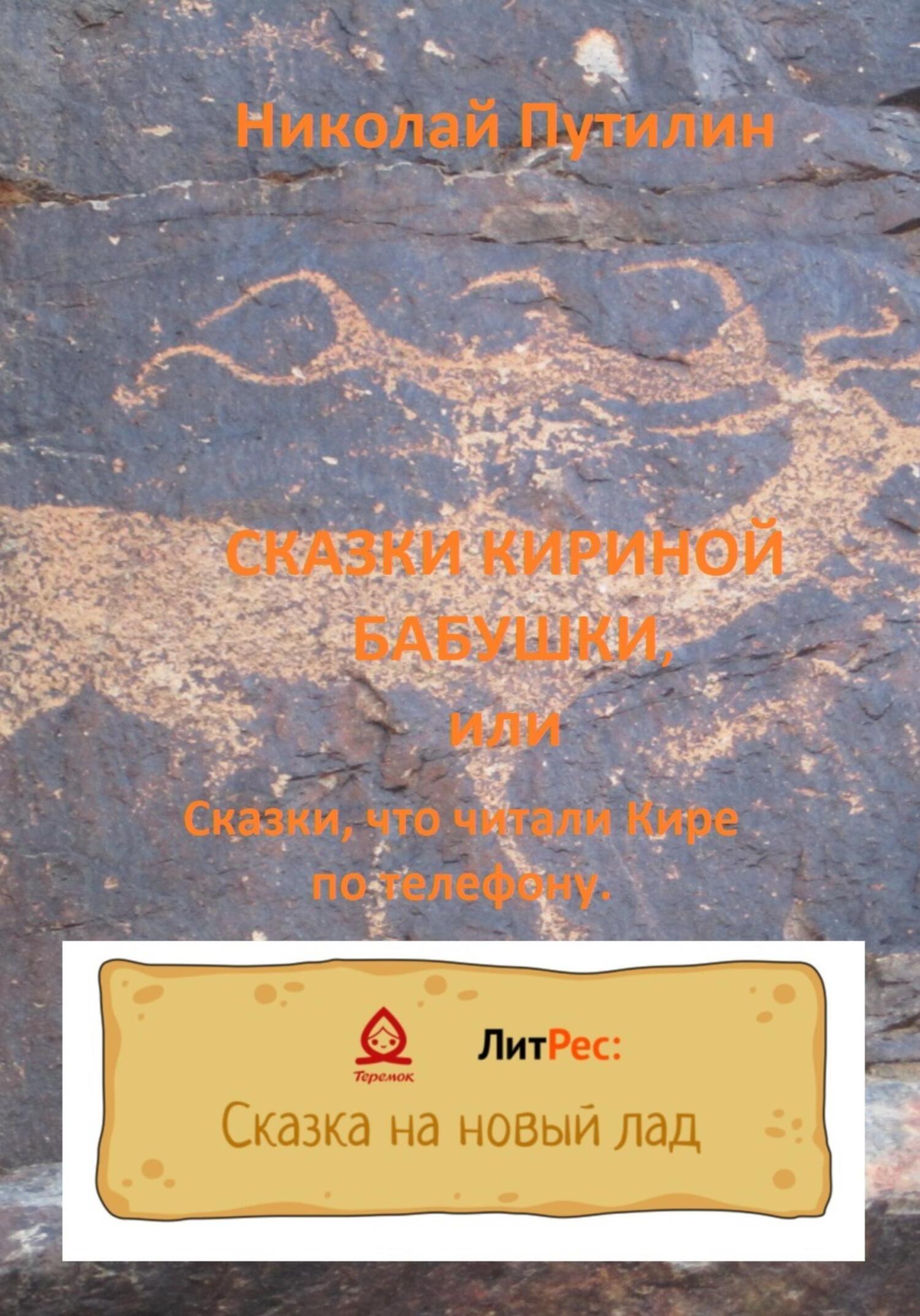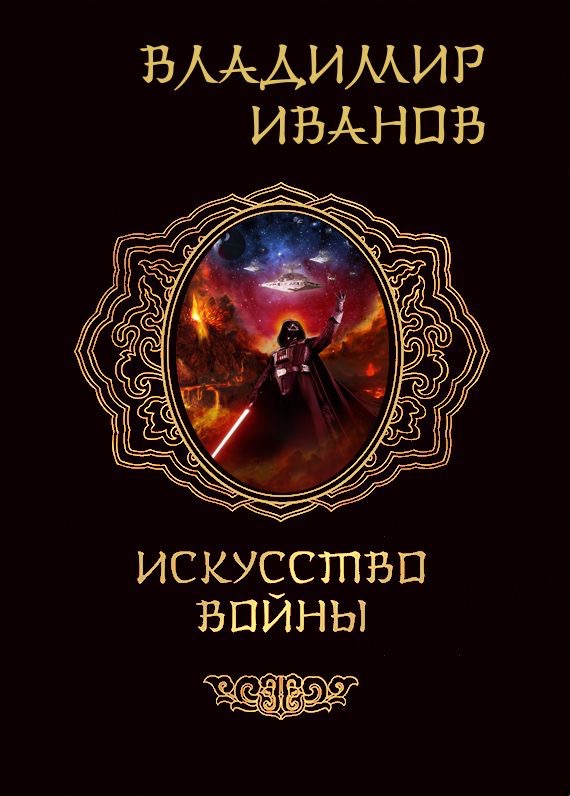ели ложкой. Называлось это «кирнуть» тюрю. Нас они презрительно называли «шкетнёй», но нравственный порог не переступали.
Зарплату, будучи на целине, мы не получали. Кормили нас бесплатно в столовой по тем временам совсем неплохо. Макароны, конина, яйца, хлеб, колбасы. На праздники и дни рождения пекли куличи. Встретил и я там свой день рождения. Поздравления, гитара, песни, казахский чаек!
И «полёт» на казахской лошади по степи! Ни с чем не сравнимое впечатление. С лошадьми я был на ты ещё со времён жизни на хуторе.
Я как «летучий голландец», кушал там, где оказывался «по сварочным делам», чаще всего на полевых станах. Это были армейские полевые кухни, где готовили много и вкусно! Часто прямо на углях местные готовили дичь. В основном это были сайгаки, на которых охотились ночью, несмотря на запреты. На наезд-вопрос участкового, который в одном лице стоял на страже всех законов, «откуда?» ответ был один – «ночью грузовик сбил». Грузовиков в степи было немерено днём и ночью. Уборка велась круглосуточно. Конечно же, никаких расследований не было. Помню, как однажды грузовик сбил лошадь. В столовой совхоза был праздник целую неделю! Лошадиное мясо, правильно приготовленное, очень даже вкусное.
Меня упрашивали сварить деревянное седло…
Дремучесть этого богом забытого в этих краях народа поражала. Многие из них ни разу в жизни не видели паровоза, ни разу не пробовали яблоки, не говоря уже о многом другом.
Меня как сварщика упрашивали сварить деревянное седло. Попытка объяснить, что дерево не варится, не удавалась. Обижались.
Зато я со своим казахом по его эскизу в свободное время сварил детскую кроватку-люльку из проволоки. Для этого пришлось изготовить несколько шаблонов для изгиба. На нижнем этаже кроватки дитя спало. Укачивали его в люльке, закреплённой на осях к спинке. Такое оригинальное по тем временам ноу-хау. Кроватки детские были дефицитом, и от заказов отбоя не было. Проволока была тоже дефицитом, но они находили и её! Тогда всё было дефицитом! Он был стилем советской жизни!
На наших глазах урожай превращался в горы преющего зерна. Урожай удался и был неожиданностью. Целина была абсолютно не готова принять и сохранить такое количество зерна. Машины свозили его на импровизированный ток под открытым небом.
«Перелопачивали» зерно вручную. С помощью транспортёрных лент и лопат грузили в машины и отвозили на станцию Сулы.
Дорога однопутка, вагонов не хватало. Путь в одну сторону был долгим. Железнодорожный путь – одна колея и на этой ветке «стояли» несколько совхозов. В эфире рации часто звучал производственный мат. Урожай был обречён. На наших глазах он превращался в горы преющего зерна. Помню этот кислый, специфический запах горящей пшеницы. Народ работал на энтузиазме и героических лозунгах в условиях антисанитарии, «жёсткого» быта, преодолевая извечное русское «авось». Зэки говорили, что в лагерях условия быта были лучше.
Умелая пропаганда делала своё дело. «Битва» за урожай продолжалась! На току зерно горело, а с полей продолжали его подвозить полными грузовиками. «Новоиспечённые» комбайнеры технику безвозвратно ломали.
Неумелая регулировка высоты хедера приводила к моментальным, невосстанавливаемым на местах, поломкам комбайнов. Часто комбайн использовался на полевых станах как транспорт – съездить на свидание в соседнюю бригаду километров за тридцать. Снимался хедер и вперёд. На комбайне умещалось человек двадцать, если не больше! Часто эти ночные поездки заканчивались авариями – поломками.
Уборка затягивалась из-за неожиданно высокого урожая. Хлеба, перезревшие на корню, под палящим солнцем и степными знойными ветрами осыпались. Истое время начала уборки прозевали. Тут нужен опыт. День начала уборки определялся «вручную».
Часто в киножурналах того времени были кадры, на которых колос берётся в руки, разминается. Так определялась готовность зерна «покинуть» колос. Чуть прозеваешь и оно при малейшем касании осыпалось! Слишком поздно было принято решение косить на «свал». Свал, это когда колосья только срезают и укладывают в валки. Через некоторое время начиналась «подборка». Комбайн «захватывает» скошенные валки «подборщиком» и обмолачивает их.
Людей не хватало. Остановили и мою автопередвижку, а меня поставили на комбайн СК-3 к зэку помощником комбайнера. Дядька оказался классным. На перекурах на мои вопросы почти никогда не отвечал. Покурив, аккуратненько укладывал окурок в тряпочку. На вопрос «зачем?» он ответил: «Привычка».
Работали в три смены. Ночевали на полевых станах в армейских палатках, спали на матрасах. Все сроки нашего пребывания на целине давно прошли. Вопросы к нашим комиссарам оставались без ответа. Конечно же, мы понимали всю трудность создавшего положения, но в то же время видели всю безалаберность и безответственность, происходившие на целине с первых же дней нашего пребывания. Создавалось впечатление, что первым действом просто забили кол и прикрепили к нему табличку совхоз «Степной», потом провели посевную, забыв, что урожай надо будет и убирать, и хранить. Ни подъездных путей, ни зернохранилищ, ни жилья.
Заканчивался сентябрь, ночи стали прохладнее. Наши комиссары «разогревали» нас «завтраками». Техника часто ломалась. Отношение к ней было, как и ко всему остальному, наплевательским. Всюду чувствовалась элементарная неподготовленность служб обеспечения.
«Ждите! Завтра привезут! Сделают! Нету! Не знаем!»
В октябре выпал снег и накрыл «сваленные» валки пшеницы. Периодически с лопатами в руках мы шли по заснеженной степи разгребать снег с валков. Ноги промокали. За нами шёл комбайн и подборщиком собирал валки погибающего зерна. Уборка практически остановилась. Настроение у всех было никакое.
В «камышовом» бараке поставили буржуйки. По взаимной договоренности места около них занимали отличившиеся в «битве за урожай» и отмеченные в регулярно выпускаемой стенгазете. Появилась должность истопника, который топил всю ночь. Дров не было, топили кизяком. Рабочая одежда поизносилась. Взятые с собой спортивные костюмы тоже. Быт становился «утомительным», появились первые заболевшие.
Мы, ежедневно «подогреваемые» нашими «командирами и комиссарами», делали каждый своё дело. Шутили, что «смело мы в бой пойдём и как один умрём…» – это про нас.
Неизвестно как долго бы это продолжалось, но случилось, что зэки днём подожгли бараки. Очевидцы рассказывали, что вспыхнули они одновременно, как спички. Пламя, гонимое степным ветром за считанные минуты «расправилось» с бараками, а заодно и с нашими вещами. Расчёт был верным – ночевать большей части комсомолят и зэков было негде…
Остались в чём были! Хорошо, что документы собрали в самом начале «битвы», и хранились они в совхозной конторе.
К вечеру подогнали автобусы, нас увезли на станцию Сулы, а оттуда ночью в Курган. Зэков там мы не видели. В Кургане нас ждала баня. После почти четырёх месяцев экономии воды из цистерны, солоноватой на вкус, которую пили, ею же мылись, на ней и готовили еду, – сказать, что баня