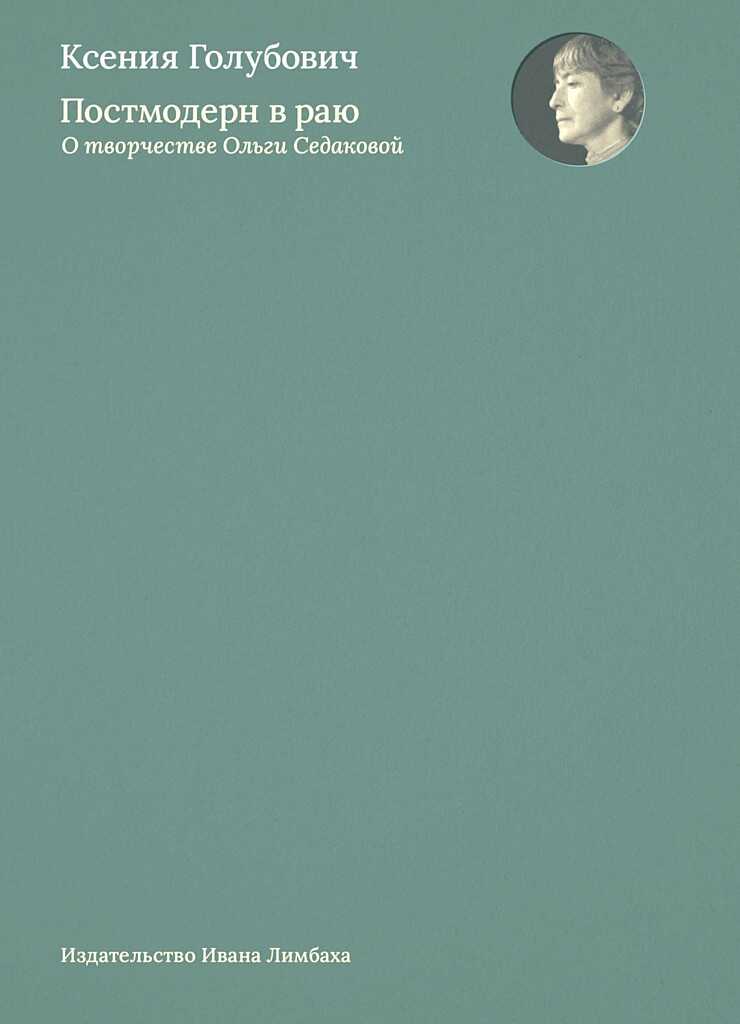те годы еще не остывал пыл завоевания и коммунизации Европы, союз с Китаем мог обещать перспективы всемирного господства. Но после американского атомного взрыва и еще по некоторым признакам стало ясно, что развертывание системы закончилось. Мир вдруг разделился строго надвое. Югославия осталась по ту сторону черты, и, в некотором смысле, по ту же сторону черты остался и мой дед. Значение его упало до статуса советского иностранца, чужеродного тела, инкорпорированного в закрытую систему, избранного доказательства нашей правоты, чем бабушка и пользовалась в смысле лечения и санаториев. Но в начале 90-х, когда система свернулась окончательно, бабушка продала все, что перешло в частную собственность, против которой так боролся мой дед, и отправилась к своему младшему сыну, моему отцу, еще в 70-х выбравшему для жительства «вторую половину человечества». Я не видела ее десять лет.
19. Круговращение сезонов
С удивительной мягкостью, которую я уже начинаю ценить, «мерседес» останавливается в узком проулке. Как если бы мы и впрямь были журналистами с кинокамерой – к нему подбегают играющие в футбол между заборами мальчишки. У отца домик на окраине Белграда, небольшой, одноэтажный, с обычной зеленой рабицей вместо ограды. Над ней, точно огромное зеленое облако, нависает кроной какой-то кустарник. «Смотри, – говорит отец, – там пчелы, это значит, что здесь очень чистый воздух». Какие пчелы? Я не вижу их, только шевелится большое темно-зеленое тучное облако кустарника. Белые плиты ведут по небольшому дворику к белому одноэтажному строению, похожему на ангар. Сейчас я ее увижу… сердце в самом деле «замирает». Почему? Не потому ли, что сейчас замкнется десятилетний круг и я увижу ее, знаемую мною так мало, лишь по детским воспоминаниям и никогда – взрослым? Время замкнется моими десятью годами, и весь ушедший мир моего детства восстановится вновь, снова обретет свою плоть, как в круговращении сезонов? Тот осенний свет, под который прошло мое детство…
Я поднимаюсь по ступеням. Открываю дверь… И…
20. Встреча
У высокого стола, в рост со стойку бара, за которым сидят на очень высоких стульях, я вижу высокое, тонкое существо… Со всклокоченными или, наоборот, как-то супермодно уложенными волосами, в полупрозрачной юбке и длинной синей футболке, висящей на нем так, как висят мужские вещи на журнальных моделях. Существо двигается медленно и плавно, не обращая ни на что внимания, точно японский актер из какой-нибудь старинной пьесы, в специально сшитом или стилизованном кимоно. Его лицо, все в глубоких морщинах, радостно, по-молодому светится, лучится светом простой удовлетворенности. Руки плавно передвигают предметы на столе, как при медитации.
– Мама, – зовет отец.
Существо поворачивает ко мне улыбающееся лицо и переспрашивает, называя меня по имени моей сестры (у моего отца еще двое детей, и про меня, старшую, сербы часто не знают), и, подойдя ко мне, проводит по щеке и, найдя свою же собственную и от нее же мне доставшуюся родинку, называет теперь уже мое имя.
21. Бабушка изменилась абсолютно…
Бабушка изменилась абсолютно, похудев так, как того требует строжайшая современная мода; изменилась безвозвратно, как если бы преобразилась в персонажа из очень стильного западного журнала, где вещи собирает и комбинирует какой-нибудь Кензо. Сейчас, на пороге девяностолетия, она оказалась без возраста, слишком молодой и слишком старой одновременно. На своих деревянных сандалиях-котурнах она перемещается по полу так медленно, как канатоходец по канату, как игрок с завязанными глазами или как если бы ее и в самом деле забинтовали в особые пелены, чтобы подчеркнуть каждое ее движение, каждый поворот головы, как при замедленной съемке. В моем глазу пространство взлетает, заверчивается, сужается, освобождается само от себя. Ее так мало в нем, что кажется, все вокруг нее – само по себе декорация, фон, а бабушка движется точно легонькая куколка, плывущая в руках невидимого кукловода.
«Катаракта» – это слово с каким-то особым почтением она будет произносить потом не раз, будто это какая-то важная особа, генеральша или модистка, с которой надо обязательно советоваться, не то упустишь последние новости. Мадам Катаракта, царица ночи, в ночном театре теней которой бабушка движется внимательно, на ощупь там, где все остальные ходят, шумят, живут на самом деле.
Бабушка касается меня, повторяет мое имя и улыбается и…
22. Призрачный театр
…что-то начинает говорить, о чем я не понимаю. «Да это она про телевизор,– говорит отец,– ей все кажется, что ее показывают каждый день по телевизору». Бабушка улыбается, кивает, а потом показывает на свою юбку и еще что-то говорит. «Поэтому,– объясняет отец,– у нее должно быть красивое платье: ведь ее будут показывать… У нее вообще с телевизором странности,– говорит отец,– представляешь, нас бомбят, все тут дрожит, трясется, а она только и говорит: „Вот сволочи, почему не показывают по телевизору?“» Это поражает меня своей почти пророческой силой. Точно бабушка, превратившаяся невидимо для окружающих в странное создание со страниц журнала, прозрела взглядом вещуньи всю суть пришедшей ей на смену эпохи, где мир, став внезапно собранием разнородных, пестрых рыб, поместился в небольшую наполненную зрительной водой телевизионную колбу. Желтоватая объективность, в которой бабушка двигалась всю жизнь и которая казалась единственно возможной реальностью, вдруг обвалилась и исчезла. И, словно отдавая первую честь новой эпохе Aquarius’а-Водолея, бабушка распустила единую желтоватую объективность на телевизионные ленты почти сериального многоцветия, сделав себе из них какой-то странный новый костюм. (В самом деле, подобно актеру из театра Но, для которого его платье есть сцена, декорация, ширма и часть роли.) «Ленты» этого костюма бабушка смотрит одна, посреди дня, в своем затемненном, личном зрительном зале, и никто не видит их, кроме нее. «Мы» же можем наблюдать то, что она видит, – лишь по ее игре, мимике, имитации.
Вот лицо ее искажается, как будто актер надевает маску гнева и ужаса. Бабушка кому-то грозит: врагам, друзьям, новой мафии, обидевшим ее родственникам. Она гримасничает, насмешничает, повторяет чьи-то слова, в лицах разыгрывает какие-то сцены. Ее худые морщинистые пальцы сжимаются в кулак, разжимаются, выбрасываются вперед, то по два, то по три в доказующем или обвиняющем жесте. А вот лицо ее смягчается, становится довольным, и она начинает говорить что-то, явно хвастаясь или кого-то хваля… но если и хваля, то как будто в пику или в доказательство тем незримым, что стоят вкруг нее враждебным кольцом и молча слушают.
Так в буддизме, говорят, призрак, охваченный огнем воспоминаний, не может обрести свободы, вновь и вновь проживая сцены прошлого, не в силах не видеть того, что видит, и огонь