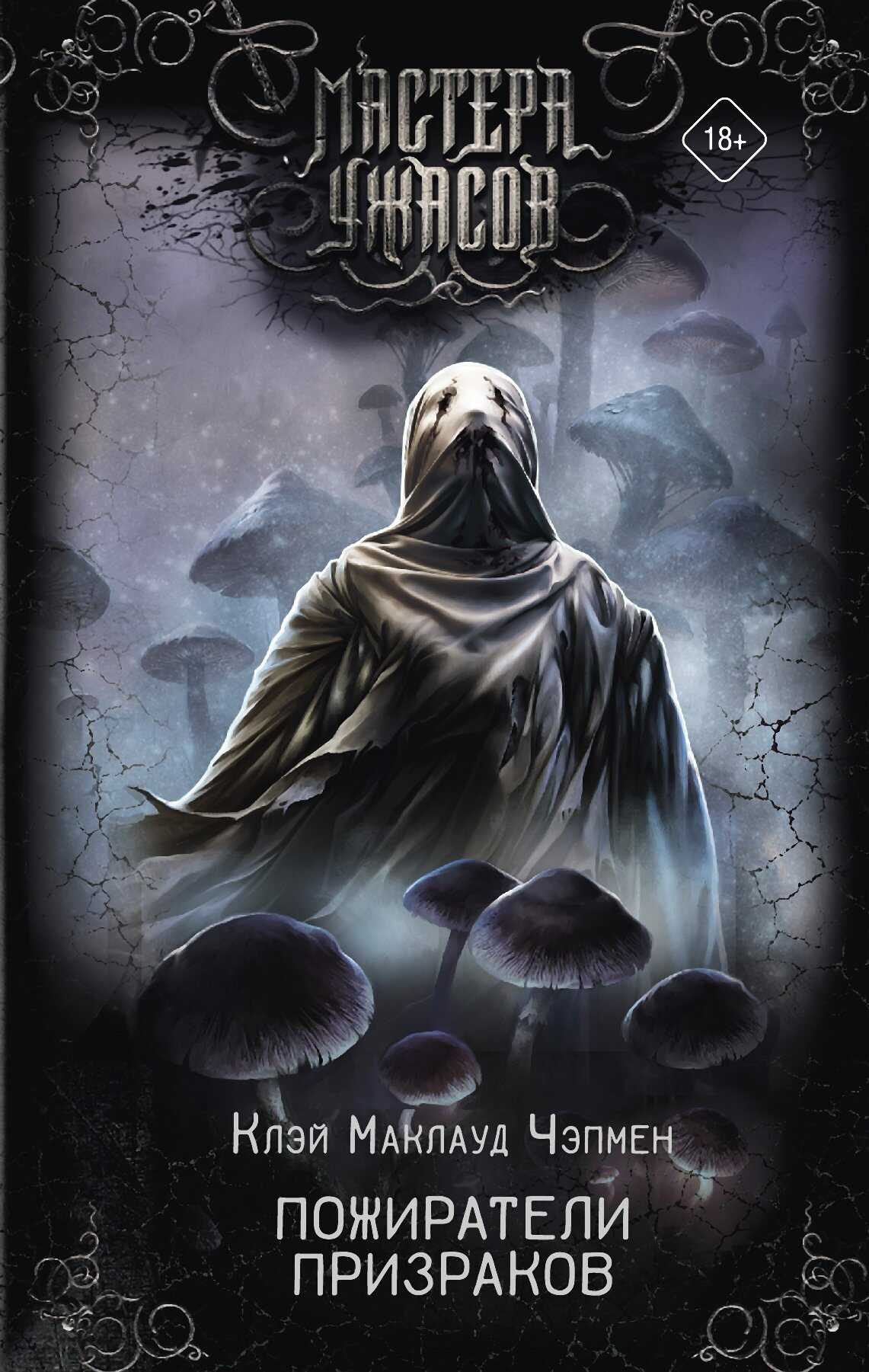бы сойти за птичью клетку, а старая версия тебя — за ее завернутого обитателя. Все, что мне нужно было сделать, — открыть верхний отсек, поместить тело внутрь, снова закрыть и выбросить за борт. Я столько раз наживлял ловушки, набивая клетку бычьими губами, менхаденом и куриными шейками. Какая разница? Это была просто история, которую я рассказывал себе и которую скоро забуду. Ничего из этого не было реальным. Ты ждал меня дома.
Я развернул одеяло, освобождая твое тело. Атлас был скользким. Холодным. Он мерцал под лунным светом. Я возьму его домой. Ты — тот, кто ждал в кроватке, — будешь нуждаться в нем, чтобы согреться. Но казалось неправильным оставлять эту версию тебя без защиты.
Поэтому я разорвал одеяло пополам. Разделил его прямо посередине.
Одно для тебя, и одно для тебя... Все будут счастливы. Все будут в тепле.
Мне нужно было что-то, чтобы утяжелить тело. Кирпича не было. Один лежал у причала, но я не собирался разворачивать лодку. Тело должно было удержать ловушку на дне, как я рассудил, поэтому я взял нож и перерезал веревку, привязанную к буйку.
Эта ловушка должна была остаться на дне. Я не хотел, чтобы кто-то нашел ее — нашел тебя — подумав, что она полна голубых крабов.
В голову внезапно ворвался образ: ты в клетке для наживки. Все эти голубые крабы, слетающиеся к тебе, заманиваемые и теперь пойманные, их острые клешни хватают твои пухлые руки, будто тетушки, щипающие тебя за щеки. Ты просто достаточно хорош, чтобы тебя съесть...
Хватит. Я зажмурился, пытаясь выбросить образ из головы. Пожалуйста, хватит.
Течение рано или поздно унесет ловушку. Прилив потащит ее дальше в Чесапик, и никто никогда не найдет ее, и на этом все закончится. Никто не найдет тебя здесь, в воде. Это была моя тайна и больше ничья.
Даже Грейс не узнает.
Чем ближе я подходил к дому, тем дальше уходила старая история. Прилив унес ее от меня в море, будто ее никогда и не было.
Как же звучала та история?
—
Рассвет занялся, как только я подплыл к нашему причалу. Небо пылало неоново-розовым. Идя по причалу, пересекая лужайку, входя в дом, я чувствовал, будто возвращаюсь в прежнюю жизнь. Последние двадцать четыре часа никогда не происходили. Я почти не спал. Гнетущая усталость тянула тело вниз. Давила на веки. Все, чего я хотел, — рухнуть в кровать рядом с Грейс и проснуться от этого кошмара, понять, что его никогда не было.
Я прошел мимо двери твоей спальни и...
Услышал тебя.
Что-то во мне в тот момент не хотело смотреть. Думаю, я боялся, что, обернувшись, пойму: это нереально. Что я все придумал. Но какой у меня был выбор?
Какой у меня вообще когда-либо был выбор?
Конечно, я посмотрел.
Ты не спал. Глаза такие широкие.
Это был ты. Должен был быть ты.
Наш сын, наша луна, наш Скайлер.
Будущее, которое я видел для своей семьи, все еще было возможным, если только Грейс и я согласимся, что ничего не изменилось, что этих последних суток никогда не существовало.
Вчера пришло и ушло, и теперь его нет. Просто мимолетный пропуск в пластинке, играющей грустную песню. Как же звучала та мелодия? Ты родился...? Что-то, что-то. Не могу вспомнить. Иногда я пытаюсь напеть ее себе, но мелодия никогда не приходит. Ее и не было.
Мы втроем все еще могли быть семьей.
Мне нужно было верить всем сердцем, что это ты. Наш Скайлер. Что еще оставалось?
Кем еще ты мог быть?
—
Когда Грейс проснулась, она выбралась из кровати и вышла в коридор. Что-то привлекло ее.
Должно быть, она услышала мое пение.
Она нашла нас в твоей спальне.
Я сидел в кресле-качалке рядом с твоей кроваткой, держа тебя на руках, завернутого в твое одеяло — половину его, по крайней мере, — мягко покачиваясь, стул двигался вперед-назад.
Она смотрела на тебя.
Видела тебя.
Всего тебя.
Твои широкие глаза.
Твой насморк.
Это был ты.
Должен был быть ты.
Ее мальчик.
Ее Скайлер.
— Смотри, кто проснулся, — сказал я. — Хочешь поздороваться с мамой?
—
Ответов не было, поэтому лучше было не задавать вопросов. Что еще это могло быть, как не чудо? Наши молитвы услышаны.