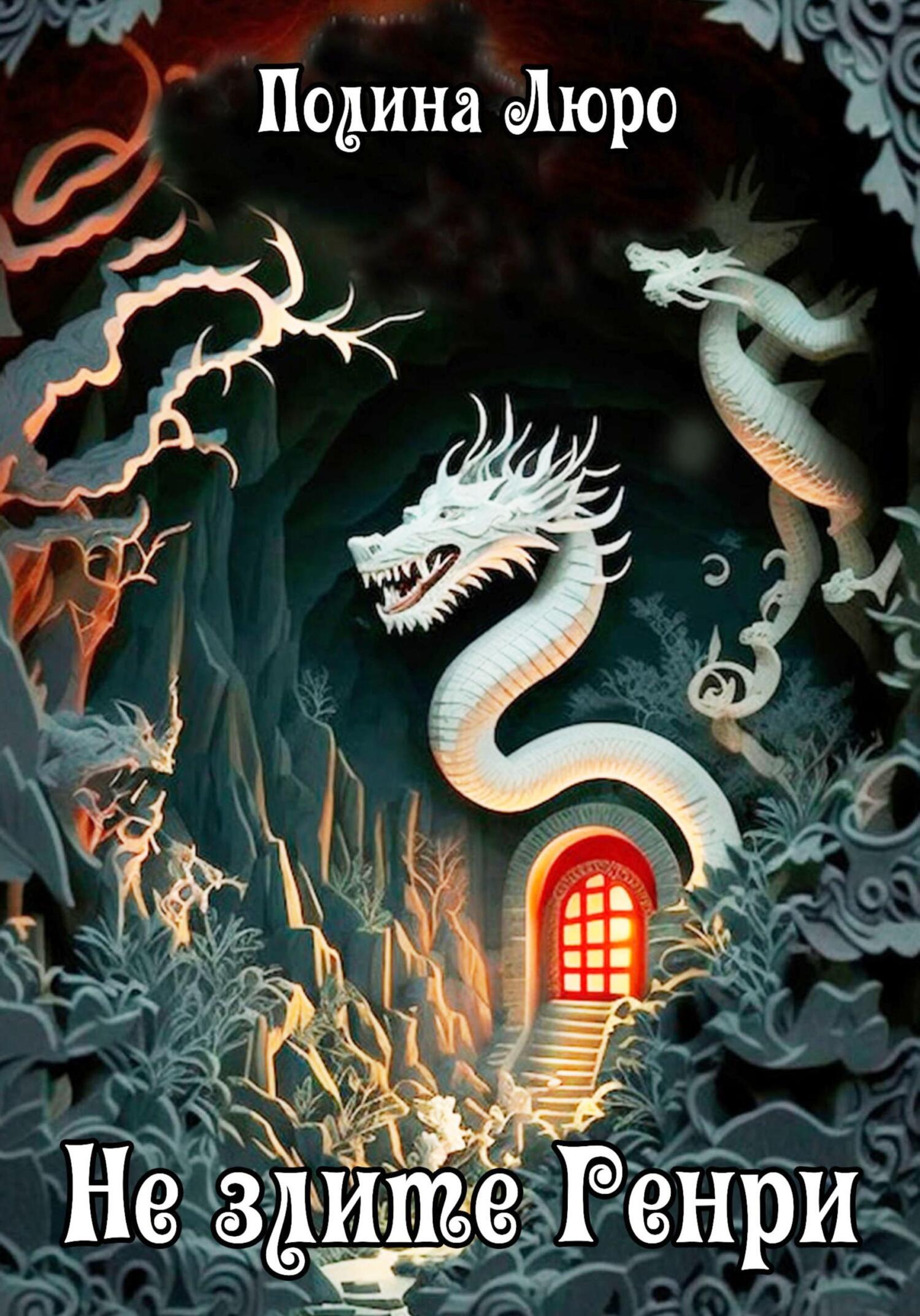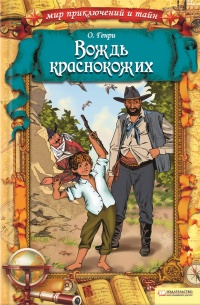день не наблюдалось, и уже скоро она будет со своими, но сможет ли она полететь с ними завтра? Сможет ли она полететь с ними когда-нибудь?
Тот редкий вечер, подаривший мне невероятное по размаху представление вольных крыльев, сменился ненастными и дождливыми днями; но однажды между ними проклюнулось погожее ноябрьское утро, вроде того, в которое ласточки покинули опустошенное смертью гнездо. С ясного неба струился свет, освящающий бурый болотный мир. Воздух был таким прозрачным и крепким, что можно было всерьез поверить в то, что «чудеса не исчезли», ибо оковы, которые держат и пригибают нас к земле, казалось, слетали с одним его вдохом. Всё, что нужно человеку таким утром, – немного побыть журавлем или аистом: расправить крылья рук, сделать пару шагов вперед и прыгнуть изо всех сил, словно запуская себя в космическое пространство, на запредельную высоту, в экспедицию по изучению «небес чужих, миров, доселе неизвестных». Какой-никакой способ влезть в птичьи перья, за неимением лучших.
Тем временем, на охваченном бледным янтарным огнем краю неба, где рождалось огромное солнце, показалось несколько летящих черных точек. Приближаясь к берегу и увеличиваясь прямо на глазах, они в какой-то момент превратились в серых ворон, только что преодолевших Северное море. Не успели они, тяжело и немного лениво работая крыльями в привычном для них стиле, исчезнуть в небе над сушей, как с рассветного края на смену им возникли новые вороны, а за ними еще и еще: они летели двойками, тройками, полудюжинами и целыми десятками – бесконечная беспорядочная процессия серых скандинавских, или «датских», ворон, прилетевших зимовать в Англию. Время от времени в вороньем потоке возникали дрозды-рябинники: их можно было отличить по чуть более быстрому полету и волнообразным движениям; при этом они держались строго заданных воронами траекторий. Дрозды тоже были уставшими и летели молча, слышался только свист их крыльев.
Утро и птицы: что может быть животворнее для сердца полевого натуралиста? Но не успело счастье разлиться по моим венам, как вслед за ним пришло противодействующее чувство – невыразимая тоска, столь много раз испытанная мной при расставании с местами, подспудно, но накрепко привязавшими к себе мою душу и сердце. Как только я начинаю ощущать первые признаки этой привязанности – нелепого трюка вегетативной нервной системы, вся суть которого заключается в выпускании невидимых нитей, подобно усикам, оплетающих «каждую травинку», или, подобно корням, впивающихся в землю, – я спохватываюсь и пытаюсь оборвать их, еще до того как они станут настолько крепкими, что уехать можно будет, лишь выдрав их с мясом. Нет, право, почему из всех полей, домов, деревьев, коров, овец, птиц, женщин и мужчин отечества я должен любить именно эти?
Но сегодня отчаянный жест не понадобился – память о диких гусях, словно под замком, держала за губами непоправимое слово, которое у меня всегда припасено на случай расставания. Этим утром я пришел на берег сказать простое «до свидания», пускай и с камнем на сердце. О чем ты знаешь, сердце?
Сумбурный небесный ручей серых ворóн с редкими косяками дроздов-рябинников еще не иссяк, а я уже сидел в поезде, несущем меня в Линн вдоль зеленых маршей и лугов – святая святых диких гусей. В последний раз я увидел их, когда поезд подходил к маленькому вокзалу Холкхема. Мой жадно блуждающий по маршу взгляд наткнулся на дюжину нильских гусей, прилетевших из расположенного неподалеку холкхемского парка в гости к своим диким родственникам. Заметив приближающийся поезд, они пришли в волнение и, конечно же, взлетели, оглашая окрестности криками и гоготом, демонстрируя во всей красе свое контрастное оперение: красное, черное и сверкающе белое. Чуть поодаль осталась стоять стая диких гусей из примерно восьми сотен птиц. Вытянув шеи, гуси следили за проезжающим поездом, следующим от них на расстоянии пистолетного выстрела. Несмотря на лязг, пар и скорость несущейся громады, несмотря на бегство полуручных нильских гусей и шум, поднятый при оном, мои дикие гуси, самые преследуемые и самые осторожные птицы в мире, не сдвинулись с места ни на дюйм, не издали ни крика тревоги!
Какое великолепное свидетельство ума этих птиц и какой замечательный показательный эпизод для тех, кто мечтает о возрождении нашего поруганного крылатого мира во всём его былом богатстве и благородстве.
Сноски
1
В широком смысле к ламаркистским относят различные эволюционные теории (в основном возникшие в XIX – первой трети XX века), в которых в качестве основной движущей силы эволюции рассматривается внутренне присущее «живому веществу» и организмам стремление к совершенствованию.
2
Нина Бёртон (род. 1946) – шведская эссеистка и поэтесса, автор книги «Шесть граней жизни. Повесть о чутком доме и о природе, полной множества языков» (пер. Н. Фёдоровой. М.: Ад Маргинем Пресс, 2022).
3
Стэнхоуп Форбз (1857–1947) – ирландский художник, один из виднейших представителей колонии художников Ньюлинской школы (колонии художников в рыбацкой деревушке Ньюлин).
4
Розалинда Пэджет (1855–1948) – английская медсестра, акушерка и реформатор медицины.
5
Географический термин, обозначающий низменную полосу морского берега, затопляемую в высокие приливы или при нагонах воды.
6
Эстуарий – клинообразное устье реки.
7
Современные зоологи относят чайю (она же паламедея) к гусеобразным.
8
Доктор Синтакс – комический персонаж, созданный в 1812 году Уильямом Комбре и иллюстратором Томасом Роуландсоном. Абсурдные истории о нем пародировали сложившуюся к тому времени культуру путешествий. Доктор постоянно попадал в уморительные передряги: то он потонет в озере, то корова загонит его на дерево.
9
Джон Джеймс Одюбон (1785–1851) – американский натуралист, орнитолог и художник-анималист, автор труда «Птицы Америки» (1827–1838).
10
Острова Сент-Килда – архипелаг в составе Гебрид, объект Всемирного наследия. Цитата из книги шотландского путешественника Мартина Мартина (1703).
11
Шекспир. Гамлет. Акт 3. Сцена 1 (пер. Б. Пастернака).
12
Видовое название этой птицы на русском языке – кайеннская пигалица. Но, учитывая солидность описанной игры, мы предпочтем слово «чибис».
13
Цитата из стихотворения Джорджа Герберта «Добродетель» (пер. И. Лихачёва):
«И ты, цветок, что алой силой
До слез иного доведешь,
Твой корень обручен с могилой —
И ты умрешь».
14