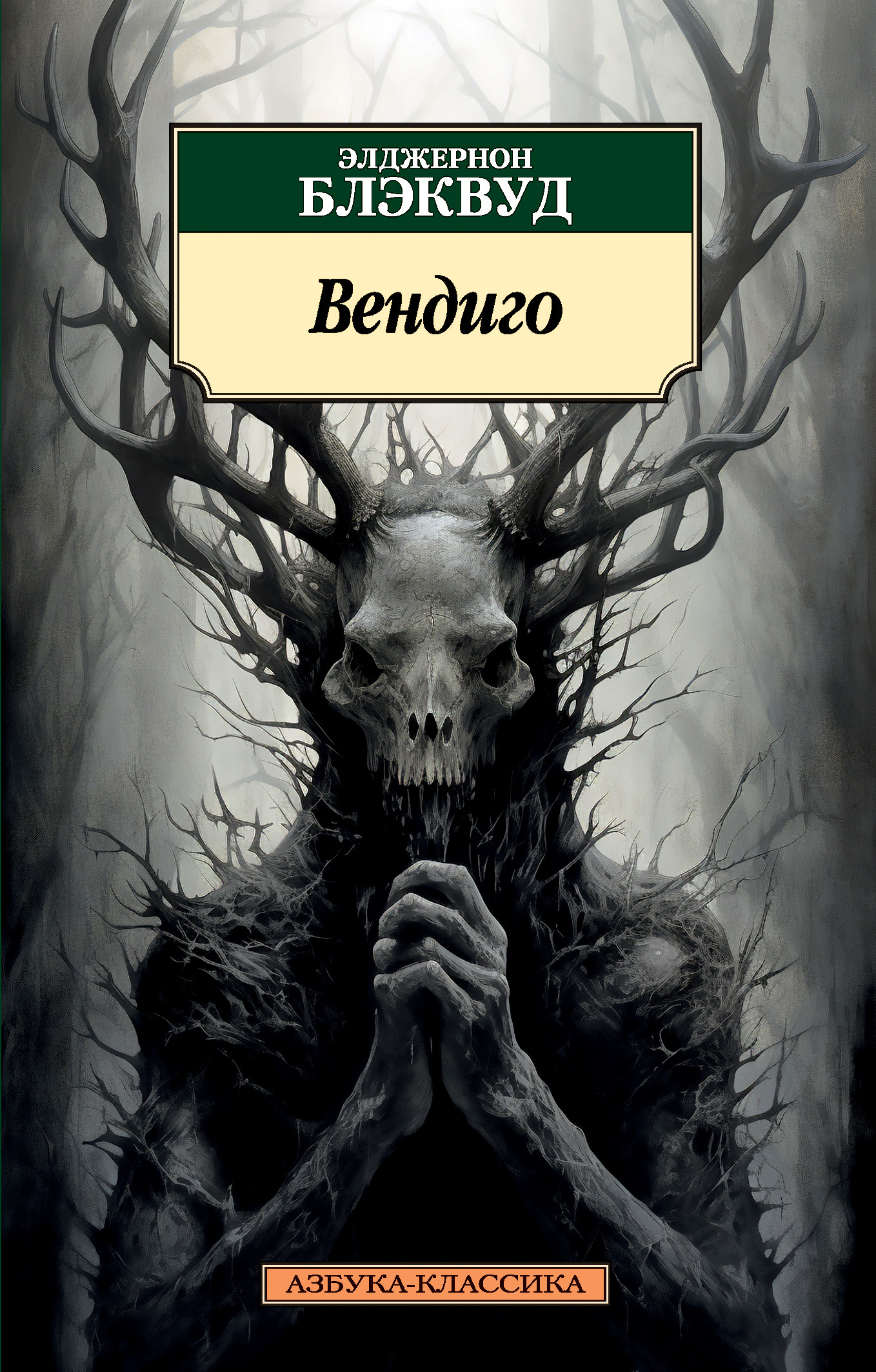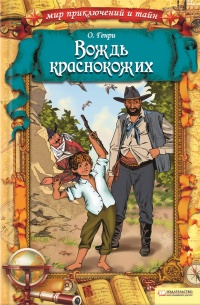конечно, такой лидер имеется), что при нарушении этого единства, как в случае описанного раскола, всегда задаемся вопросом: что же произошло? Вот из сплоченной массы скворцов, летящих в одном направлении, внезапно выпадает какое-то количество птиц, до полустаи, и садится на верхушку дерева, тогда как остальные летят дальше; а вот, заметив овец, пасущихся на поле, часть пролетающей стаи отделяется, садится между ними и тоже принимается искать корм. В первом эпизоде, возможно, одной из птиц приходит в голову: «Дерево! Хорошо бы отдохнуть!» Импульс, тотчас перешедший в действие, подхватывает определенную часть стаи и увлекает за собой вниз, тогда как в остальных продолжает непоколебимо звучать тот импульс или мотив, который поднял стаю в небо и наказал лететь. Похожим образом во втором случае пейзаж внизу ярко отзывается в мозгу одной из птиц чувством голода, а вид белых камушков овец, пасущихся на влажном зеленом лугу, вызывает ассоциацию с удовлетворением этого чувства, и скворец срывается к овцам, увлекая часть стаи за собой.
Не этим ли объясняется и следование части скворцов за дикими гусями? Что, если те три десятка птиц выбились из стаи, потому что оказались охвачены каким-то общим импульсом? Что, если именно эти скворцы прилетели с самого севера Европы, где они водили дружбу с дикими гусями и вместе с ними летели над странами, уже убеленными снегом, вместе пересекали море, вместе садились на зеленые поля и луга, где вместе находили обильный корм? Тогда вид пролетающих гусей мог отозваться в них какой-то подобной картинкой из прошлого, и тридцать скворцов были оторваны от стаи импульсом, повелевшим присоединится и лететь с чужой стаей, но только тридцать – для остальных их пример, по-видимому, оказался невыразительным или незаразительным.
Настоящий подарок преподнес мне вечер двадцать девятого октября. На исходе дня небо расчистилось, и гуси вернулись немного раньше обычного, и не традиционными подразделениями, а одной большой стаей. Отойдя от Уэлса примерно на полторы мили, я ждал их на марше, стоя лицом к Блэкени. До заката оставалось полчаса, когда я заметил одинокую птицу, летевшую мимо меня к морю в футе или двух от земли. Птица была ранена – ее подстрелили на пастбищах, и теперь, не имея сил держаться в небе со стаей, она медленно и мучительно возвращалась к месту ночлега на песчаных отмелях. Когда между мной и раненой птицей было две или три сотни ярдов, с берега ручья поднялось несколько травников; немного покружив, они опустились обратно. Но не успели их лапки коснуться земли, как раненый гусь, изменив курс, полетел прямо к ним и вскоре приземлился подле. Именно так действуют социальные птицы, когда их бросают свои и когда им худо, – они ищут утешения у других, пусть даже эти другие ни капли на них не похожи, как травники на гусей. Ради этого они даже готовы рискнуть задержаться в таком опаснейшем месте, как берег ручья, где, как известно гусям, любят прятаться охотники. Но было очевидно, что раненого гуся угнетает и тревожит мое присутствие – все четверть часа, что он провел с травниками, он простоял с вытянутой шеей, беспокойно глядя в мою сторону. За это время произошло и кое-что еще – не успел гусь приземлиться, как его заметила пролетающая рядом серая ворона. Опустившись подле, она стала расхаживать вокруг, любопытным взглядом изучая раненую птицу. Ворона никогда не нападет на гуся, даже на раненого, даже на смертельно раненного, но она сама умрет, если не удовлетворит свое воронье любопытство и не определит, насколько тому плохо. Гусь тоже хорошо знал ворóн и знал, что у этой ворóны на уме. И как же он, должно быть, ее презирал. Я внимательно следил за ними: каждый раз, когда ворóна приближалась к гусю на несколько футов, тот пригибался и резко выбрасывал вперед свою длинную змееобразную шею. Если бы мой бинокль обладал не только превосходной оптикой, но еще и умением передавать звуки, я бы всякий раз слышал в нем злобное змеиное шипение, сопровождающее этот угрожающий жест. С каждым таким выпадом ворона отскакивала на несколько шагов, но сразу же возвращалась и ходила вприпрыжку вокруг гуся, до тех пор пока не удовлетворила свое бесстыдное любопытство, и лишь тогда улетела на место ночлега.
Спустя несколько минут из невидимой небесной дали послышался шум гусиных крыльев. Раненая птица повернулась в сторону большой земли и вытянула шею навстречу своим друзьям, возвращавшимся назад целыми и невредимыми, отяжелевшими от кукурузы, оглушительно жизнерадостными. Шум нарастал, и вот появились сами гуси: они летели не единой массой, но тремя линиями – невообразимой длины шнурами, в широких пробелах между которыми, выстроившись фалангами, летели меньшие группки и стайки от дюжины до полусотни птиц.
За всё мое двухнедельное дежурство под закатным небом я ни разу не видел, чтобы гуси возвращались вот так, единым фронтом, насчитывающим минимум четыре тысячи птиц, как не видел и подобных шнуров, тянущихся по небу на треть мили. Как не было и столь благоприятных обстоятельств – либо вечера были закутаны в облака, либо гуси возвращались уже после заката. Сегодня небо выдалось ясным, без единой хмуринки, а солнце продолжало стоять над горизонтом, с плоского марша похожее на огромный малиновый шар, зависший над чернеющими приземистыми крышами Уэлса с прямоугольником церковной колокольни посередине. И вся эта воздушная армада проплывала прямо над нашими головами – моей и раненого их друга, настороженно застывшего на буром плацу марша. Чтобы долететь до песчаных отмелей, ведущим птицам хватило двух-трех минут. Оказавшись над местом ночлега, они не стали снижаться, а, поджидая остальных, зависли и закружили в воздухе медленным гусиным водоворотом, дробящим шнуры с фалангами и всасывающим в огромную, похожую на чаячью, толчею. Когда вся стая была в сборе, началось снижение – каждую секунду несколько птиц отрывалось от толчеи и скользило вниз по диагоналям, другие, по отдельности или группками, пикировали на полусложенных крыльях, стремительно, словно хотели разбиться о море. Всё великолепное представление вольных крыльев уложилось в четыре или пять минут, спустя которые от многотысячной стаи в небе не осталось и следа. Несомненно, это было самое захватывающее зрелище из жизни птиц, которое мне довелось наблюдать в Англии.
Еще не скрылись из виду последние гуси, не утонул в тишине многотысячный шум-гам, как раненая птица, немного помедлив, сделала несколько шагов вперед, затем снова вернулась к травникам – этим маленьким ни на что не годным (но где найти других?) друзьям, – а затем, окончательно решившись, тронулась в сторону моря.
Ей повезло: на этом участке побережья охотников в тот