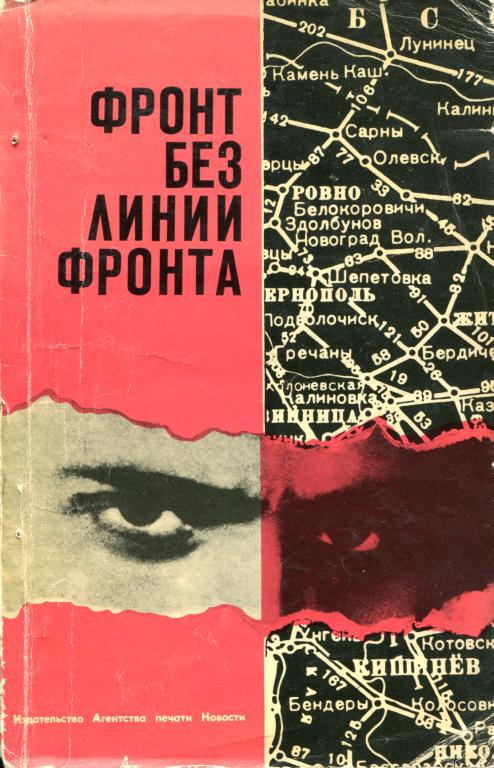ОТОМСТИТЬ!
В общем, я приняла ванну. Признаюсь, это было райское блаженство. Вытираться громадным мохнатым полотенцем, которое явно оставили для меня, казалось почти греховным. И немного нереальным.
Старушка – правильнее будет сказать, пожилая дама, не старушка, – эта изысканная женщина встретила меня в дверях, когда я выходила. Я, конечно, теперь была чистой, но альпинистские брюки заляпала грязь, а мокрые волосы на концах топорщились, так что я чувствовала себя беспризорником. Даму, похоже, это не смутило: она вновь взяла меня за руку и на сей раз отвела в маленькую гостиную, где горел камин и стоял на огне чайник. Хозяйка усадила меня на обитый шелком диванчик восемнадцатого века и приготовила легкий ужин из хлеба, меда, кофе, крошечных желтых яблочек и вареного яйца.
Поднос отправился на столик с мраморной столешницей, а дама красивой серебряной ложечкой разбила верхушку яйца, словно я была младенцем, которого нужно покормить. Потом погрузила ложку внутрь, и глазам моим явился желток, золотой, будто солнце, проглянувшее из-за облаков. Мне тут же вспомнился первый ужин с нерегулярными войсками Крейг-Касла. Потом до меня дошло, что мы с Джули никогда не приезжали туда одновременно, и теперь уже никогда не приедем, и я сгорбилась и заплакала.
Старая дама, которая не знала, кто я, и чья жизнь была в опасности уже потому, что она принимала меня под своим кровом, села рядом со мной на антикварный диванчик, принялась гладить мне голову тонкой морщинистой рукой, и я обреченно прорыдала в ее объятиях почти час. Спустя еще какое-то время она поднялась и проговорила:
– Сварю вам другое яйцо: ровно три минуты, как любят англичане. Это уже остыло.
И действительно сварила, и заставила меня его съесть, а сама расправилась с холодным.
Когда я поднялась, чтобы вернуться в конюшню, хозяйка расцеловала меня в обе щеки со словами:
– У нас ужасное общее бремя, chérie. Мы похожи друг на друга.
Точно не знаю, что она имела в виду.
Я тоже дважды поцеловала ее и сказала:
– Merci, Madame. Merci mille fois[50].
Хотя на самом деле даже тысячи благодарностей было недостаточно. Но я больше ничего не могла ей дать.
* * *
Ее сад полон розовых кустов – старых, раскидистых; настоящие заросли. Среди них есть дамасские, осенний сорт, и последние цветы до сих пор, склонившись, никнут под дождем. Наша ячейка названа в честь хозяйки виллы. Митрайет говорит, до войны она была достаточно известным садоводом – ее шофер / смотритель на самом деле еще и квалифицированный садовник – и даже вывела несколько новых сортов роз, которым сама дала названия. Я не заметила розовых кустов ни когда мы прибыли сюда ночью, ни даже когда в ступоре пешком шла на виллу при свете дня, но обратила на них внимание, возвращаясь после ванны на конюшню. Цветки размокли под декабрьским дождем, они умирали, но крепкие кусты были живы и однажды весной снова станут прекрасными, если немецкие солдаты не выкорчуют их, как те, что раньше росли на главной площади Ормэ. По непонятной причине розы заставили меня подумать о Париже, и с тех пор песня о нем беспрерывно крутится в голове.
Никто больше из наших не удостоился ванны или яйца всмятку, хотя их и угостили остывшими, сваренными вкрутую. Думаю, меня отправили в дом, чтобы отвлечь и организовать тем временем отправку парня, которого я с утра пыталась убить, и второго, на котором тоже были цепи. Во всяком случае, больше я их не видела. Не знаю, как с их ног сняли оковы, куда отправились пленные, в безопасности ли они. Надеюсь, у них все в порядке. По-честному надеюсь.
Остальные еще на два дня остались в конюшне. Митрайет говорит, что беглецам на самом деле безопаснее ездить не ночью, а днем, когда повсюду люди и нет комендантского часа. Не то чтобы я этого не понимала, раз уж столько раз старалась попасть на самолет, который прилетал на какое-нибудь отдаленное поле хорошо за полночь.
Митрайет, меня и хозяина «розали» отвез домой шофер леди из розария на ее же машине – мы решили, что нашему автомобилю лучше пока постоять в гараже на случай, если нацисты еще раз придут его проверить. Мост до сих пор не починили, и все трупы, за исключением тел убитых нами немцев, так и остались под дождем. Трупы охраняли, чтобы никто не попытался их похоронить. Там лежало пятнадцать человек. Я их не видела. Мы в любом случае не могли бы ехать этим путем, мост-то взорван. Дорогу расчистят, мост починят, но у меня тошнотворное предчувствие, что тела просто свалят в кучу на обочине как напоминание и предупреждение: мол, даже не пытайтесь впредь кого-то спасать. Джули, милая Джули,
ДЖУЛИ
Теперь я собираюсь выпить микстуру и заснуть опять. При этом важно помнить, что, когда я проснусь, нужно будет кое над чем поработать. Пока мы с Митрайет отсутствовали, подруга маман Тибо, которая держит прачечную, привезла мешок со свежевыстиранными рубашками немецкого производства, на которых пришиты бирочки «Кетэ Хабихт». Среди них припрятана груда бумаг, которые предстоит изучить. Не знаю, что там конкретно, не хватило духу посмотреть, но, должно быть, это снова послание от Энгель. Амели глянула, обнаружила, что листы пронумерованы, и разложила их по порядку, но прочесть не смогла: там все по-английски. Они так и лежат в мешке из прачечной, среди моего нового, невесть откуда взявшегося нижнего белья. Сегодня вечером у меня уж точно нет ни малейшей охоты читать ничего из присланного Энгель, но завтра воскресенье, к кофе будут круассаны и, надо думать, дождь так и не прекратится.
* * *
Записи сделала не Энгель.
Их сделала Джули.
* * *
Я пока еще не все дочитала. Какое там: едва начала. У меня сотни разнокалиберных листов, половина из которых – маленькие карточки. Маман Тибо продолжает варить мне кофе, а ее дочери – внимательно следить за дорогами, главной и проселочной. Я же не могу остановиться. Не знаю, насколько это срочно, – может, бумаги нужно вернуть Энгель, раз уж на каждом листе стоит официального вида штемпель с ее номером и ко всему прилагается жуткий вердикт на бланке гестапо, подписанный страшным Николаусом Фербером. На самом деле я знаю из перевода Энгель, что это не приказ, просто рекомендация. Но, думаю, рекомендация как раз выполнялась, когда мы остановили автобус с заключенными.
* * *
Я сразу вижу, если Джули плакала. Не только потому, что она сама об этом пишет, просто буквы кое-где размазаны, а