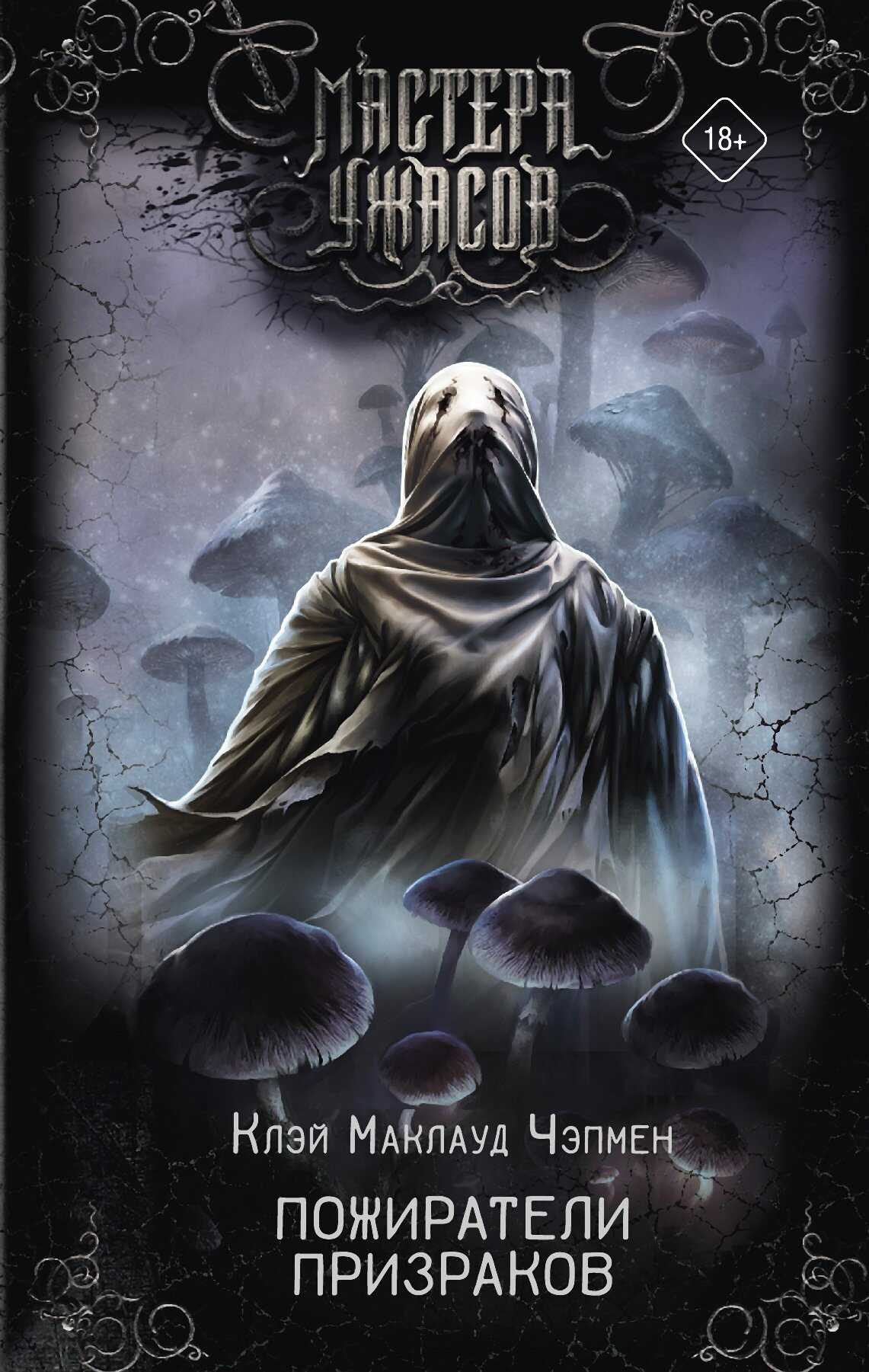руку. Сначала я не понимаю, чего он хочет. Ему снова нужно обнять? Что я должна сделать? Нет — это что-то другое. Он хочет чего-то другого.
мамочка
Он тянется к моим рукам. Он хочет свою кожу назад.
Хочет своё одеялко.
мамочка
Он забирает кожу из моих рук, и я позволяю ему. Он подносит руки к щели на лице и широко раскрывает её.
А потом съедает.
Всю.
Я наблюдаю, как мальчик начинает трудоёмкий процесс проглатывания сброшенной оболочки целиком. Сначала он берёт кожу с головы и проглатывает её одной полосой. Он не жуёт, просто глотает кусочек за кусочком, позволяя ей скользнуть в горло.
Затем переходит к плечам. Ему приходится запихивать пустые пальцы в рот руками. Сначала один рукав, потом другой.
То же самое с торсом. С талией.
Ноги — последние. Самые большие прозрачные спагетти в мире. Лодыжки проскальзывают между губ, затем пятки, и наконец все десять пальцев.
Голова, плечи, колени и пальцы, колени и пальцы.
Когда он заканчивает, я притягиваю его к себе.
Ты когда-нибудь держала животное, пока оно отдыхает? Не домашнего питомца. Что-то дикое, существо, которое выживает, только если всегда начеку, никогда не расслабляется.
Эта дикая доверчивость. Эта связь. Любовь чего-то природного.
Я чувствую это сейчас. С ним. Ощущаю уязвимость его тела, пока держу его на руках. Бешеный ритм его жужжащегосердца отдаётся в груди.
Этот беззащитный ребёнок. Это беспомощное существо. Он дрожит, и я сжимаю объятия, окутывая его, давая понять, что он в безопасности, что я здесь, пока его кожа снова начинает твердеть.
Кто ты, Скайлер?
В голове материализуется слово, больше похожее на шёпот, чем на мысль. Тулпа . Мыслеформа, ставшая плотью.
Что, если Генри действительно создал этого мальчика?
Что, если я помогла?
ТРИ
Генри прислонился к двери моего номера, когда я заезжаю на парковку, используя косяк как опору. Классическая поза разочарованного отца. Кажется, будто меня сейчас отругают за то, что я вернулась позже положенного. Он отходит от двери только после того, как я глушу двигатель, морщась от заходящего солнца. На свету он выглядит бледным.
— Давай зайдём внутрь, — говорит он, открывая дверь Скайлера и помогая ему выйти, — пока нас никто не увидел…
Любой проезжающий мимом подумает, что видит семью, измученную долгой дорогой, едва волочащую ноги к своему мотельному номеру.
Какая же мы картина.
Кровь Лиззи высохла на ковре в виде узора из ржаво-красных морских анемонов. Мухи роятся над остатками фастфуда и обёртками. Я вижу мечехвоста, его клешни теперь неподвижны, панцирь расколот пополам.
— Почему бы тебе не остаться здесь ненадолго, — говорит Генри, проводя мальчика через бисерную занавеску. — Маме с папой нужно поговорить.
Мы теперь семья ?
— Ты вернулась, — говорит он, когда возвращается.
— Мне некуда идти.
— Могла поехать в больницу.
— Врачи не знали бы, что с ним делать, да?
— Полагаю, нет, — говорит он.
Скайлер просто не такой, как другие дети. Теперь я это понимаю.
— Как это произошло? — спрашиваю я. — Как он стал… таким?
— Сразу к делу…
Я слишком измотана для этого. — Говори.
Он слабо улыбается. — Мысль плюс время плюс энергия . Это твои слова. Именно это, как ты сказала, потребуется, чтобы вернуть его… и ты была права. Посмотри, что мы сделали, Мэди.
— Это были просто слова.
Его улыбка исчезает. — Важно то, что за словами. Слова обретают силу, когда вкладываешь в них всего себя. Видишь, что происходит? Мы вернули Скайлера. Вместе.
— Я ничего не делала—
— Каждый раз, когда мы приходили в эту комнату, ты говорила мне думать о Скайлере. Каждый сеанс — думай о Скайлере. Снова и снова. Думай о Скайлере, думай о Скайлере… пока он наконец не вернулся.
— Это невозможно…
— Я не смог бы без тебя. Я пытался годами, но ничего не выходило. Пока не встретил тебя.
Это бред. — Генри, я всё придумала.