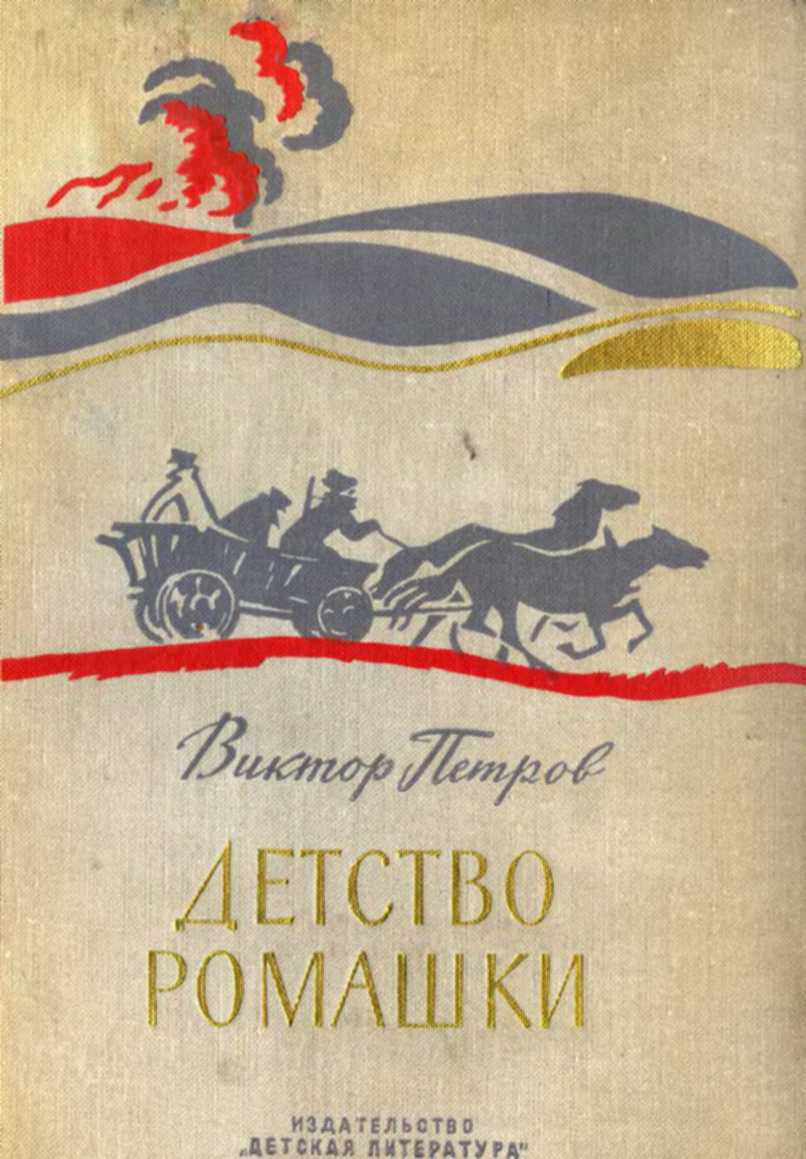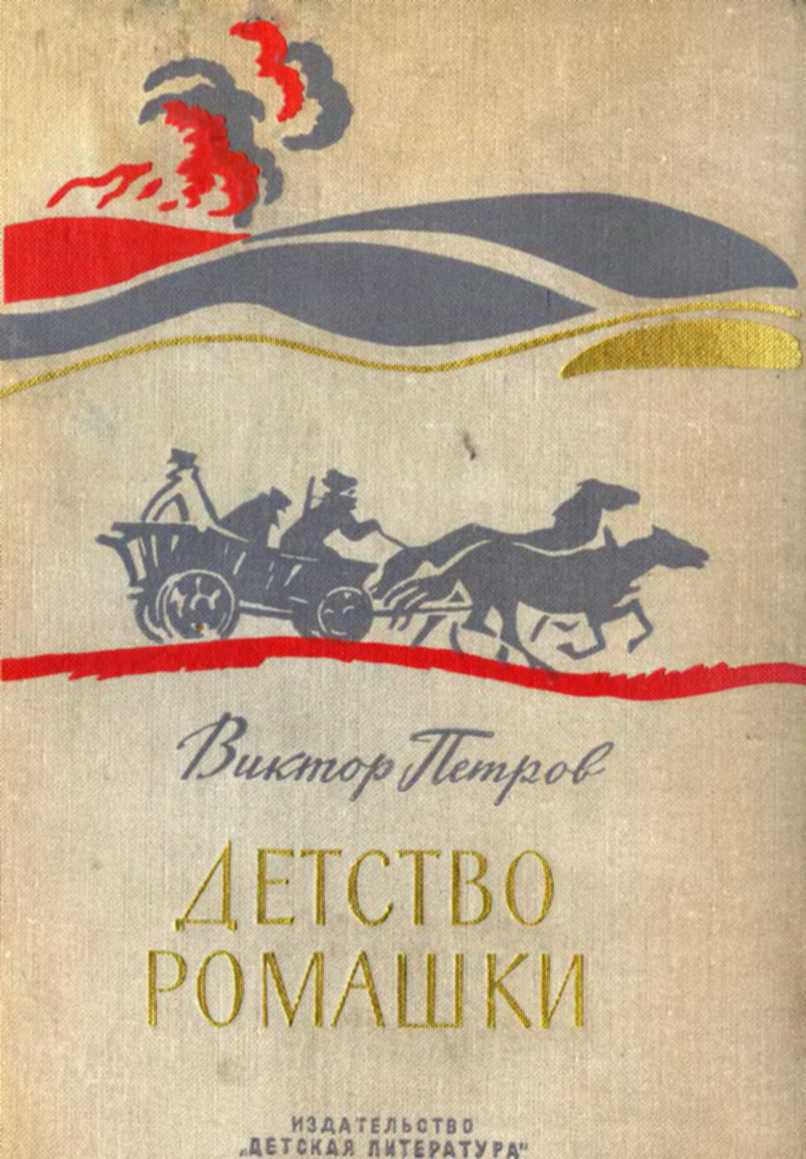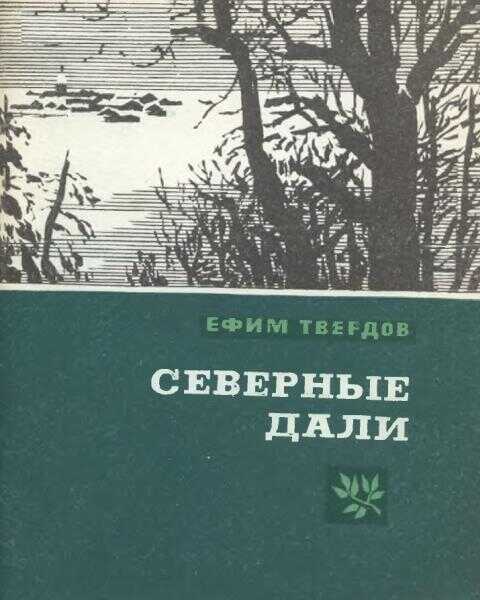Много меда навыжимал, а как в избу вернулся, там непорядки нашел. Мой приемыш все шмотки перемял, новые полуботинки в пущих местах продырявил, одеяло замарал. Я почал его искать для наказания. Долго искал. Нашел в своем охотничьем рюкзаке — спит себе и в клубок свернулся. Занятно. Носик под себя подобрал, лапки подогнул, а иглы у него в ту пору были мягкие. Я только рукой по нему провел, как те иглы шильями встали и почали кусаться. Еж выпрыгнул из рюкзака, на меня зашипел. Я его снова молочком потчую. Ест, не сердится.
Так я с ежом промаялся все лето и осень. Все бы хорошо, да по ночам больно бесится. Только начнешь засыпать, огонек угасишь, как он в чехарду сам с собой заиграет, да так, что по всей избе стукоток пойдет. Бойко бегает, стучит, что колотушка. Как до газетины иль до книги дорвется, считай пропало, всю на клочья изорвет.
Через месяц, как я его принес, еж обжился. Тогда я его стал на улицу выпускать. Думаю: убежит так убежит, а живности все ж хочется свежим воздухом подышать. Ничего. Мой еж первую неделю справно возвращался и всегда точно к обеду. Поест молока иль рыбьих косточек, глядь — уж дрыхнет без всякой заботушки. Однажды ежик, видно, далеко ушел, к обеду не пришел. В тот день я один обедал. В паужну тоже не вернулся. Я хотел было идти его искать, кричал его:
— Зазевинка. Подь сюда, я тебя молочком угощу.
Но еж не приходил.
И только поздним вечером еж вернулся в избу. Я окончил ужин, сижу на досуге, покуриваю, по сторонам поглядываю да к лесу прислушиваюсь. Вдруг слышу, будто в траве кто-то семечки шелушит. Вгляделся. Это мой приемыш волочется еле-еле и на своих иглах какую-то тварь несет. Оглядел я его и обомлел. Как же он сумел одолеть такую лесную крысу? Это была водяная крыса, рыжая, продолговатая, брюхастая. Часть, что помягче, порвана. Это мой ежик обедал. Остальную часть на ужин домой приволок. Оставил крысу у корневища березки, а сам к избяным дверям и почал лапками стучать: «Отворите!» Не кричит, а думает. Я ежа в избу пустил, молока дал, а он косо на молоко поглядел и спать в рюкзак пошел. Дрыхал всю ночь и полдня следующего, а потом опять в лес на ремесло пошел. И так каждый день. Гулял, сколько хотел, а домой возвращался. Видно, крепко к деду прижился. На каждый мой крик: «Зазевинка, домой!» — он колобком катился.
Наступили осенние холода. Я пчелиные ульи на зимовку, в надежное место обрядил, а сам в деревню вернулся. Зазевинку с собой принес. В избе на пол его спустил. Моя Авдотья, как увидела того ежа, чуть в обморок не упала, загомонила на меня:
— До старости дожил, а ума не накопил! Зачем такое дерьмо в хоромы приволок? Кинул бы в лесу, и точка.
Я Авдотье отвечаю:
— Несусветная ты женщина, хорошего не понимаешь. Ложись себе спать, утро вечера мудренее.
Больше ничего не сказал. Сам с устатку чайку попил, щей мясных похлебал да вдосталь Зазевинку накормил и спать в запечник уложил. Там ему подстилочку из старого овчинного тулупа сделал. Тепло и мягко, добро и безобидно. Сам после этого на лежанку лег. Авдотья поворчала, поворчала, да видит, что с ней никто не связывается, так утихомирилась, на кровать легла и сразу в храп пустилась. Я тоже круто уснул. Спали в ту ночь мы крепко. Утром разом проснулись. Как только моя Авдотья лампу электрическую включила да свет ее по избе загулял, почала смеяться да ахать:
— Осподи боже мой, милостивый-то ты какой! Гляди-кась, Кирилл да свет Петрович, что наш Зазевинка наделал.
Я посмотрел на пол избы и тоже в восторг пришел. На полу кучка мышей навалена. Я без стеснения стал мышей считать, насчитал больше чертовой дюжины да к Авдотье:
— Это ты всех порасплодила, а мой приемыш Зазевинка их изничтожил. Его не ругать надо, а благодарить, а то и премию вроде лишней порции отварного мяса в сметане выдать.
В тот же день моя Авдотья свою кошку-воровку об угол головой, да в снег выбросила, а ежика полюбила. Так с тех пор Зазевинка и остался с нами. В теплые времена года со мной на пасеку идет, там помогает, а зимой в деревню возвращается, закутное место занимает. Наш ежик всем вам поклоны посылает, да больше трудиться вам желает, а того больше учиться. Сейчас время приспичило научное. Без знаний ни туды ни сюды, ни в поле ни в огороде.
СЛОВО ЛЕСОЛЮБА
Бывали ли в нашем Пятницком сосновом бору? Не бывали. Грустно. Такой бор нельзя пройти сторонкой. Послушайте. Как могу, так об нем и поведаю вам. Есть в том бору светлое озерко и часовенка, а дороги к ним две. Можно пройти из деревни Махачево или из Тудозера, а ежели прямиком, то по Косой тропе. Она выведет как раз к озерку. Стоит там часовенка, заросшая мхом. Но красота ее до сих пор сохранилась, чудесная резьба. Говорят, что ферапонтовские мастера ее строили. Никто, конечно, из нас точно не знает, когда она была построена, но былины о ней до сих пор живут. У нас сказывают, что сотню лет тому назад был большой пожар. Горел Благовещенский монастырь на Андомщине. Монастырь был большой, как наседка среди ощипанных цыплят, стоял он в верховьях реки Андомы. Будто бы из церкви во время пожара вылетели три ангела и, разлетевшись в стороны, каждый сел в заказанное ему богом место. Один ангел с подпаленным крылом не мог дальше улететь и упал на землю около большого, светлого ключа в бору. Поэтому ключ назвали Светлым, а попосля тут вырыли озерко, а сосновый бор назвали Пятницким, так как ангел упал в пятницу. К этой часовенке ежегодно в июльскую пятницу собираются богомольцы для того, чтобы умыться святой водой. Богомольцы сначала искупаются в этом озерке, потом наполнят склянки святой водой и несут их домой для исцеления своих недугов.
От часовенки открывался благодатный вид на Пятницкий сосновый бор. Великаны сосны толпились у безымянного ручья, разливая краски на все четыре стороны. Вершины сосен подпирали небо. По обе стороны ручья в весенний разлив играли косачи, наполняя ложбину и весь бор песенным наигрышем. На гладких черничниках да брусничниках в сосняке густо и красиво щелкали мшаники, выговаривая свое сдвоенное «док-док…», а за перевалом бора, в узком болотце, славили весну журавли.
Теперь же бор ушел