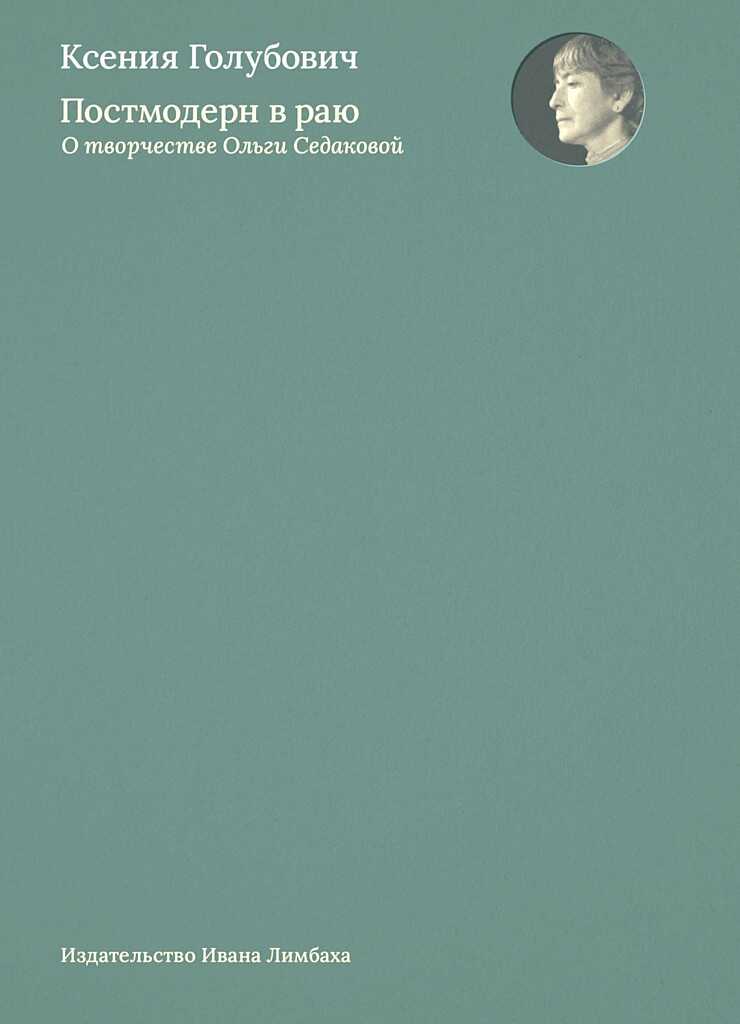– Байчитич, он – со стороны моей бабушки, один из многих детей многочисленных бабушкиных братьев и сестер, но единственный, с которым отца, полуиностранца, связала дружба по приезде из Москвы. «Здравствуй», – говорит Драган, окидывая меня одним взглядом и крепко, цепко, как птица когтями, обнимая меня за плечи. Он – мой дядя и видит меня впервые, но когда-то давным-давно, когда меня еще не было или когда я еще только появилась, он видел мою маму. Иногда между посылкой и следствием, столь быстро идущими друг за другом в логике, в нашем человеческом мире должно пройти лет тридцать. Он крепко берет меня за плечи, точно хочет знать меня на вес. Это касание я узнаю самими костями, кожей, нервами, так, видимо, касаются Байчитичи, уча узнавать их на ощупь. И может, не случайно Драган – театральный режиссер. Вероятно, им всем свойственно глубоко театральное чувство жизни, наматывающее реальность, как разноцветные ленты, вокруг стержня их поразительного чувства силы собственного телесного присутствия в мире.
54. Университет
Вглубь – на сцену, каковая задернута черным занавесом, скрывающим ее от зрительного зала. У стены, за школьными партами уже сидит несколько человек. На партах – полные пепла и окурков, запыленные тяжелые стеклянные пепельницы, что тут же напомнило мне кафедры в Московском университете. Это смешение взрослого и детского не может не радовать. Университет, институт – то, где взрослое встречается с молодым и образует странные, переходные формы совместности, такие как пепельница на парте, оставленный пепел, говорящий о вечной юности и о ее уходе. Молодые только начинают зажигать жизнь, как бы дотягивая себя до взрослости, старые, наоборот, длят огонь остывающей жизни, пускают красивые кольца дыма, задерживая, околдовывая юность.
Мы, как взрослые, сидим за партами. Я примечаю двоих. Седого мужчину с очень крупными и выразительными чертами лица и женщину со взбитыми рыжеватыми волосами, с бледным лицом, все время курящую. Мужчина – как шепчет мне отец – знаменитый белградский актер, женщина, Зока,– известный психотерапевт, подруга Драгана. Интересно, Драган пригласил ее как специалиста? Что же, трагическое – это симптом, и он хочет знать, сколь точно сей симптом передан в смысле медицинской составляющей каждой роли? Передо мной, быть может, нечто давно утраченное в Москве: единство культурного поля от поэта до психиатра, от лингвиста до режиссера, ощущение «университета», где общее культурное поле, предполагающее общие культурные ценности, разделяется и специализируется на «факультеты» и «отделения». Между факультетами и отделениями всегда идет соревнование за большее приближение к истине, психология или литература, физика или биология содержит истину различных истин, и, поскольку поле одно, есть еще и смежность, взаимопроникновение, взаимосогласование. Передо мною ввод, представление молодняка: молодые играют перед стариками, показывая степень своей принадлежности к универсальному сообществу. Они – точно дети из хороших семей, благодаря воспитанию одновременно и молоды, и стары. А взрослые, классические роли, которые они на себя надевают, думается мне, – это степень их воспитанности.
Студенты Драгана не обращают на нас внимания. Как будто не готовясь ни к чему серьезному, они почти бесцельно бродят, вдруг останавливаются, гнутся, машут вверх-вниз руками, заламывают их, точно занимаются какой-то одной им ведомой гимнастикой.
Всего их четверо. Двое парней, две девушки. Все они одеты в майки и нечто типа трико, в их неряшливости есть что-то знакомо американское. Они стройны, худы, спортивны. Особенно выделяется одна девушка, очень худая, с очень выразительным, точно вырезанным по камню лицом. Ловлю себя на том, что не могу оторвать глаз от этой худой девушки, мне это не нравится, мне кажется, что я обращаю на нее внимание потому, что она очевидно подходит под все общепринятые стандарты. Своей красивой худобой она точно заранее уже отделена от других и уже заранее, еще не начав играть, предполагает «аудиторию». Вторая – проще, круглее. Ее черты менее четки, более женственны, ее тело гораздо больше принадлежит этой стороне сцены, чувствуется, что для особенного зрительного его выделения нужно организовать гораздо больше условностей. Почему, собственно, мы должны смотреть на нее – она слишком похожа на «нас»? Из мальчиков – один высокий и стройный, как-то по-особенному гибкий, в нем тоже есть нечто притягивающее взгляд, быть может, сама эта гибкость, мягкость суставов, хорошее движение. Второй поплотнее и покряжистее, потяжелее, с небольшим животиком. Преимущество двух перед другими двумя проходит ровно по черте сцены. Для меня намечается простой конфликт: два обычных тела должны войти в пространство сцены или два необычных, заранее притягивающих, сценических тела должны выйти на авансцену, суметь приблизиться. Поскольку доставшееся мне от бабушки чувство социальной справедливости всегда играет со мной смешные шутки, я, как истый просветитель, начинаю болеть скорее за тех, кто должен подняться «снизу вверх», чем за тех, кто должен спускаться «сверху вниз»: ведь на вторых и так все смотрят.
55. Шестидесятник
Но пока «маленькие актеры» разминаются. Они гнутся, хихикают, показывают друг другу языки, выворачивают ступни, выходят в дверь, возвращаются с пластмассовыми бутылками для питья, словно все нарочно должно быть предельно грубо, жестко, равнодушно. Мне кажется, что это прием. Драган вторгается в их разминку, начинает что-то показывать, как если бы видел в ней элементы еще сокрытого представления. Он становится и в полный голос что-то говорит им. «Как тебе это перевести, – шепчет отец, – ну что-то типа „размудьтесь“ (на русском нейтральном – перестаньте зажиматься). Он любит так грубо говорить». Ага, особенно так хорошо говорить перед тем, как играть Софокла.
О, старая университетская культура, я узнаю тебя, меня ты не обманешь. Филолог, пишущий о матерном стишке, доказывающий его в своем роде удивительное формальное совершенство и начинающий речь со слов: «Эта прелестная миниатюра произвела на меня сильнейшее впечатление». Физик, занимающийся сложнейшими микроядерными исчислениями, но поющий похабные куплеты. Как если бы сама университетская культура давала бой своей отвлеченности, прорывала дно, боясь стать слишком абстрактной, стараясь присовокупить к себе недостающую телесную часть, стараясь прорваться за книгу или включить в книгу и это, делая многомудрого Рабле своим героем, а Вийона – учителем. Конечно, есть и другие поглощенные своей наукой, возводящие университет к чему-то наподобие монастыря, но уже, думается, с 60-х это чувствовалось как ненужная книжность, заводящая в тупик схоластика, разрушающая сугубо светский характер университета, и Драган Байчитич, требующий от домашних детей, читающих «возвышенные» книжные роли, открытия сексуальной энергии, вероятно, подлинный шестидесятник: как если бы, в самом деле, он наглядно, на их собственных телах демонстрировал закон вытеснения, открытый Архимедом, а после Фрейдом. Как если бы для того, чтобы подняться к