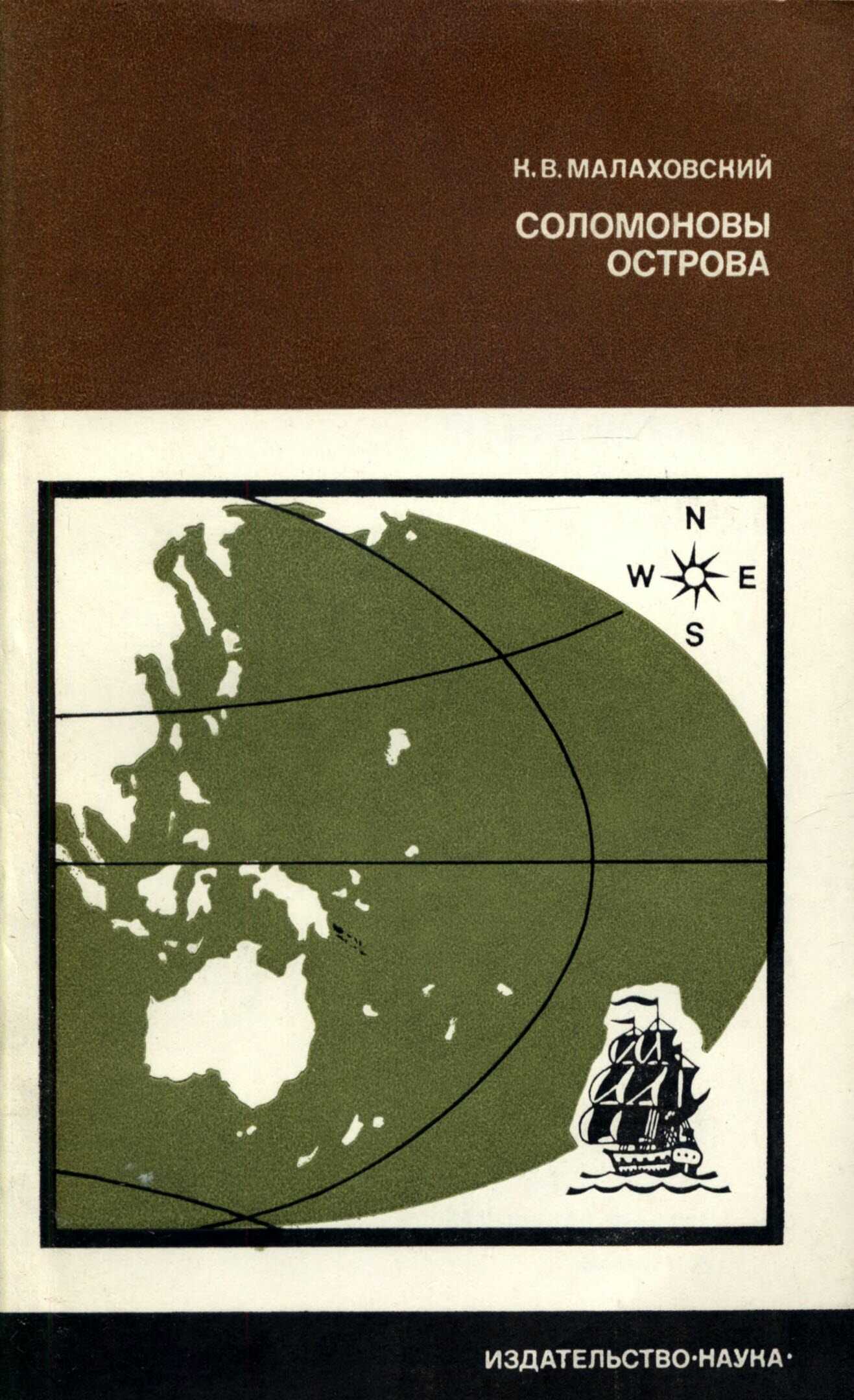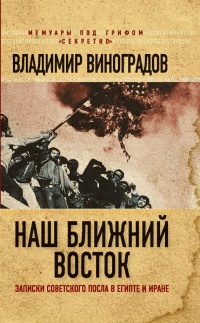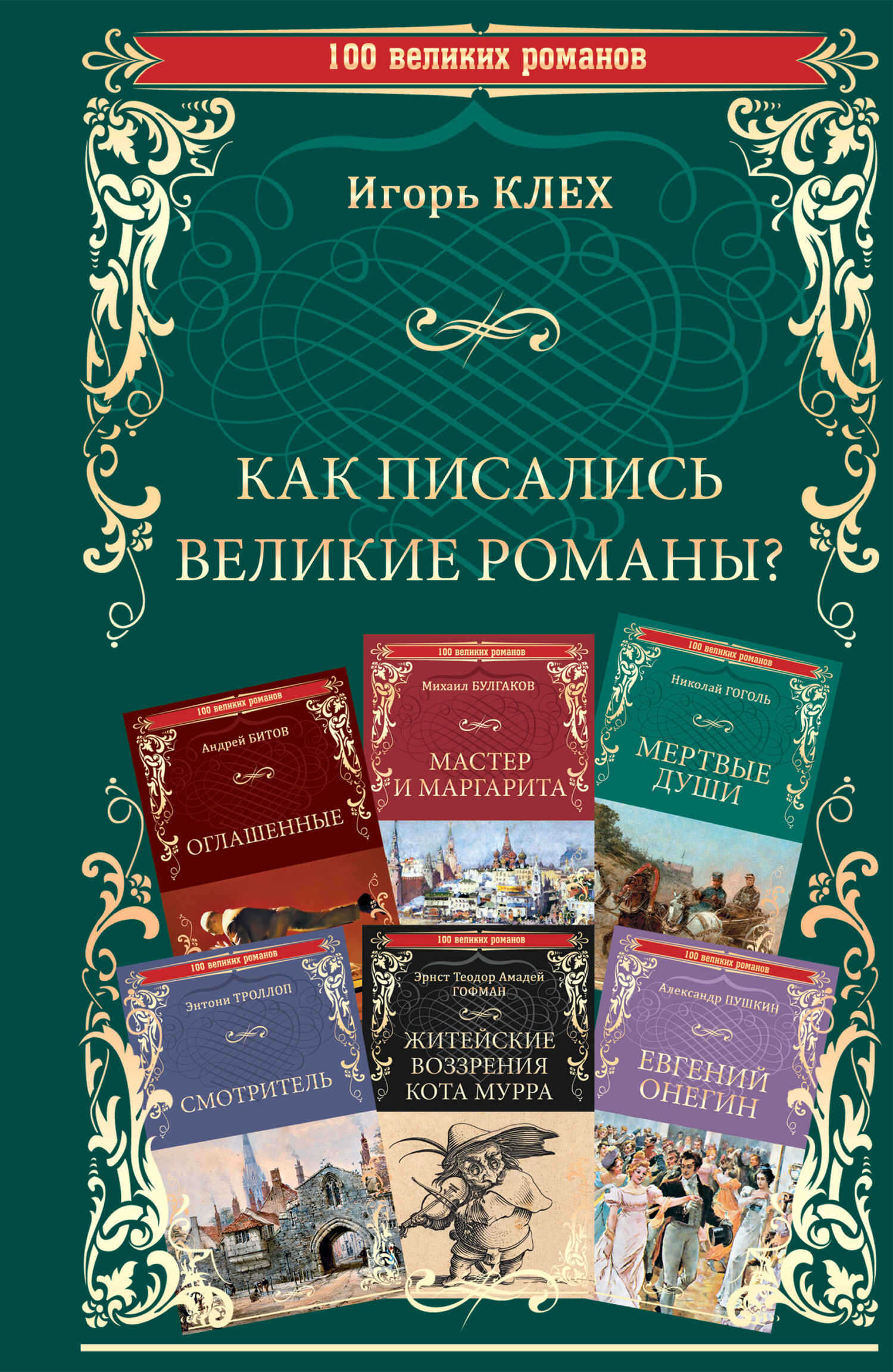традиция решит, что национальному кинематографу необходим свой божественный покровитель — ками, уверен, что им будет провозглашён Акира Куросава.
Театр. Цирк
Бездна под мизансценами
В Петербурге прошли гастроли традиционного японского театра Но. Театр — памятник мировой культуры, охраняемый ЮНЕСКО, как какой-нибудь разрушающийся древнеегипетский храм… Театр, последние тексты пьес для которого были написаны почти 200 лет назад… Театр, зародившийся в представлениях деревенских акробатов, а к XVII веку застывший и ставший торжественной придворной церемонией… Мы увидели театр Но.
Сказать, что он далек от нас, — не сказать ничего. Он совершенно чужд нашей ментальности, психологии, эстетике. Однако когда мы осознаем — ничто в нас не способно стать точкой отсчета для его восприятия, то пускаемся в свободное плавание по волнам ассоциаций. И неожиданно возникает какое-то потустороннее понимание… Не случайно на спектакли японской труппы общества «Хакусекай» было не пробиться от наплыва публики. И мало кто ушел до конца представления, хотя в данном случае это было бы почти простительным: не у всякого европейца психика способна выдержать заунывную флейту фуэ, прерываемую ритмом трех барабанов, невнятный даже для японца речитатив актеров, медлительные, как в ни на что не похожем сне, движения танца. Трое американцев тихо хихикали от начала и до конца. Не думаю, что это было выражением презрения к чужой культуре, скорее нервная реакция.
Впрочем, некое понимание публики было: во время фарса когэн, которыми в Но перемежаются «серьезные» пьесы, в зале раздавался смех. Разумеется, нелепые приключения отца и сына, которые с одними штанами-хакама на двоих являются в гости к отцу невесты, или двух глупых князей-дайме, которых провел бродяга, смешны, а игра комедийных актеров блестяща. Но ведь и это смешное очень далеко от нас. В Европе подобные фарсы служили отдушиной простонародью, которое всласть могло поиздеваться на них над своими «классовыми врагами». А фарсы Но смотрели придворные и самураи, и смеялись они именно потому, что сами были готовы разрубить человека надвое или вскрыть себе живот за любую мелочь, а не только за такие ужасные оскорбления.
«Если в литературе Муромати есть что-либо прямо адекватное всей эпохе в целом, то этим будет именно Но», — писал академик Николай Конрад.
А эпоха Муромати продолжалась с 1338 по 1537 год. Давненько. И далековато. В эту эпоху вообще приобретала классический вид вся та экзотика, которая экспортируется ныне из Страны восходящего солнца. Тогда все это было живо, исполнено смысла, развивалось, было «адекватным эпохе». Сейчас — стало памятником цивилизации, которая тогда никоим образом не соприкасалась с нашей. И мы подсознательно ощущаем — не для нас работают эти актеры, а для давно ушедших людей в высоких шапках и странно-пышных костюмах, с двумя мечами у пояса, и расстояние до них больше, чем до Марса.
С драмами еще хуже. Нет, верхний пласт смысла понятен. Когда в финале «Сумидагава» из символической могилы появляется призрак мальчика, а мать пытается безуспешно схватить его, зал сочувственно замирает. Замирает он и когда в кульминационный момент «Фуна Бэнкэй» из морских глубин поднимается разгневанный призрак военачальника Тайра-но Томомори. Мать и сын навеки разделены смертью. Или — если прогнал свою любовь, вместо нее из пучины к тебе придет чудовище. Это мы понимаем. Но для японского менталитета вопрос не в этом — скорбь матери и храбрость Есицунэ, бьющегося с призраком, — все это моно-но-аварэ, «печальное очарование вещей», опадающая сакура, быстротечная жизнь в мире желаний, выход из которых лишь в небытие, нирвану. Монотонные молитвы будде Амиде и богам синтонисткого пантеона сопровождают явление обоих призраков, и они вновь уходят в сумрак иномира.
И во всем этом — бездна совершенно конкретного смысла, полностью понять который можно, лишь в совершенстве владея японским языком и будучи солидно начитанным в тогдашней литературе. Ибо текст пьес-екеку соткан из тысяч литературных ассоциаций, аллюзий, знаков. Вряд ли возможно понять их неподготовленному европейцу, даже при наличии светящегося табло с переводом текста, как в Мариинке. И фарсы созданы по той же методе. «Звезду с неба не хотите?» — вопрошает в финале «Двух дайме» горожанин одураченных им вельмож. Это — распространенная игра слов: «хоси» — хочешь, и «хоси» — звезда. Самый простой пример…
И это еще не все. Театр Но — больше, чем искусство, это некий культурно-религиозный ритуал. Японцы воспринимают его не так, как мы привыкли воспринимать театр, они предаются длительной медитации, впитывая в себя флюиды родной цивилизации. Канонизированные еще двести лет назад скупые жесты могут обозначать все события в мире, легкий наклон головы меняет выражение маски со счастливого на горестное. Завороженные плавными восьмерками алебарды-нагинаты в руках у призрака, зрители понимают: если актер ускорит движения, плавность сменится смертоносным мельканием стали. И, зная это, они созерцают в своем сознании картину бешеного боя.
И открывается японской душе в символическом действе метафизическая глубина мира. Наверное, это высшее прозрение, на какое способно язычество. Между прочим, когда в Японию в XVI веке проникло христианство, появилось несколько екеку христианского содержания. Они не дошли до нас, и понятно почему — это был нежизнеспособный гибрид несовместимых категорий.
Мы увидели в прошлые выходные живой (хоть и мертвый уже несколько столетий) Но — «искусство мистических старцев». Поистине так: мы видели игру выдающегося Сакаи Отосигэ, впервые вышедшего на сцену в 40-х годах, и юного Кандзэ Хироаки, который продолжит традицию одной из главных школ Но, сохраняющуюся в его семье. Древность и юность, скорость и оцепенение, жизнь и смерть. И бездна, которую скрывают мизансцены древнего театра. Мы видели Но.
Юрий Никулин и Олег Попов. «Белый» против «рыжего»
Олег Попов и Юрий Никулин — часть детства всех, родившихся на закате СССР. Детство немыслимо без Клоуна, а эти двое для советских людей были олицетворением клоунады. Скажи тогда кто-нибудь юным пионерам, что дядя Олег и дядя Юра могут ненавидеть друг друга, это было бы воспринято, как святотатство. Однако это правда: история взаимоотношений двух выдающихся артистов — история ревности, зависти и взаимных обвинений.
«Клоун Олег Попов» — так он единственный раз упоминается в книге мемуаров Никулина «Почти серьезно», где автор много и доброжелательно пишет о других своих коллегах. Сухая констатация, которая много говорит об их отношениях. А Попов, «Солнечный клоун» СССР, когда он уже десять лет был «Счастливым Гансом» Германии, на вопрос журналиста — такого же эмигранта — дружен ли он был с Никулиным, холодно ответил: «Не комментирую».
«До меня дошло: я спросил что-то категорически не то», — пишет журналист.
Разоткровенничался Олег Константинович позже