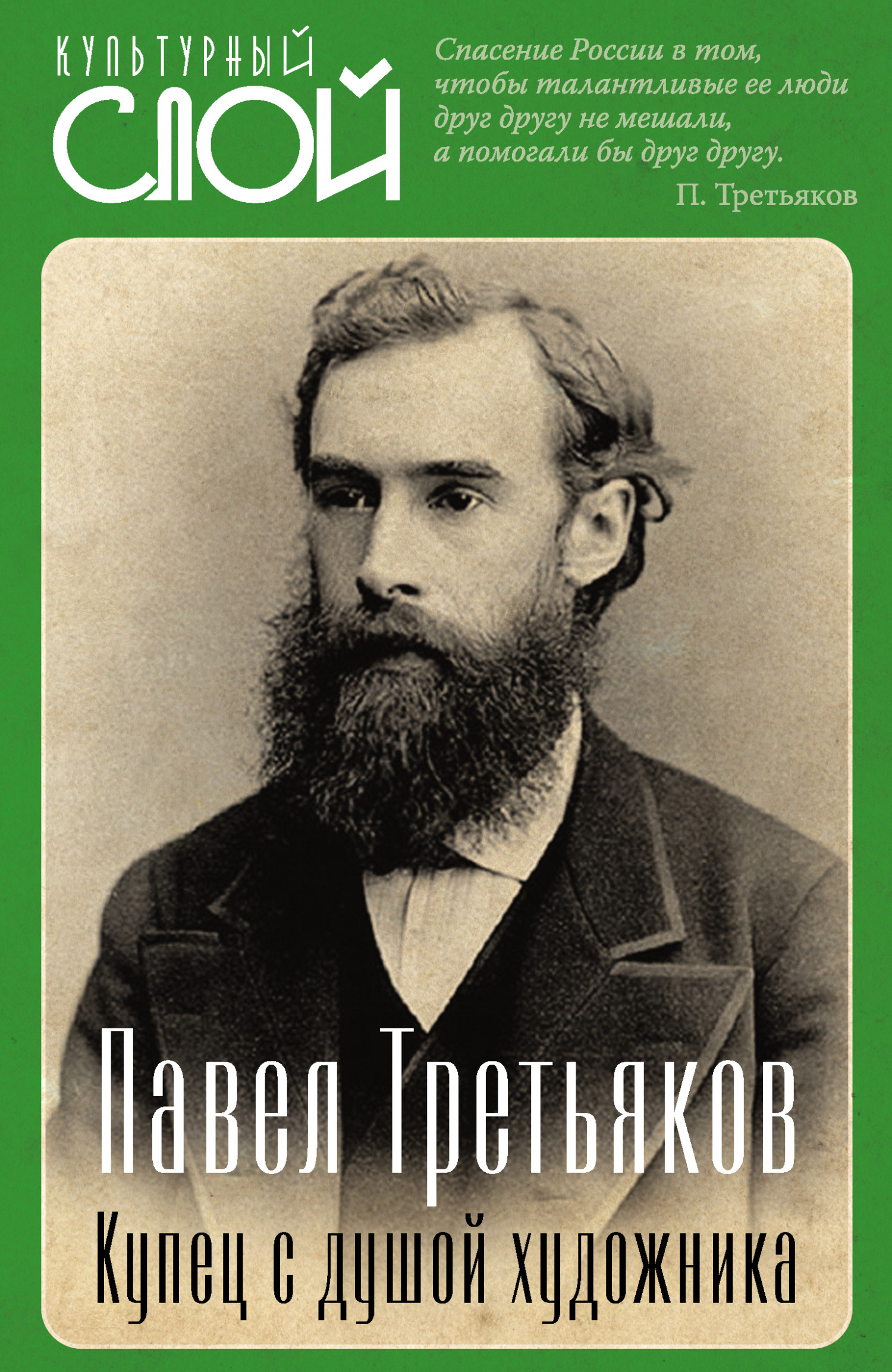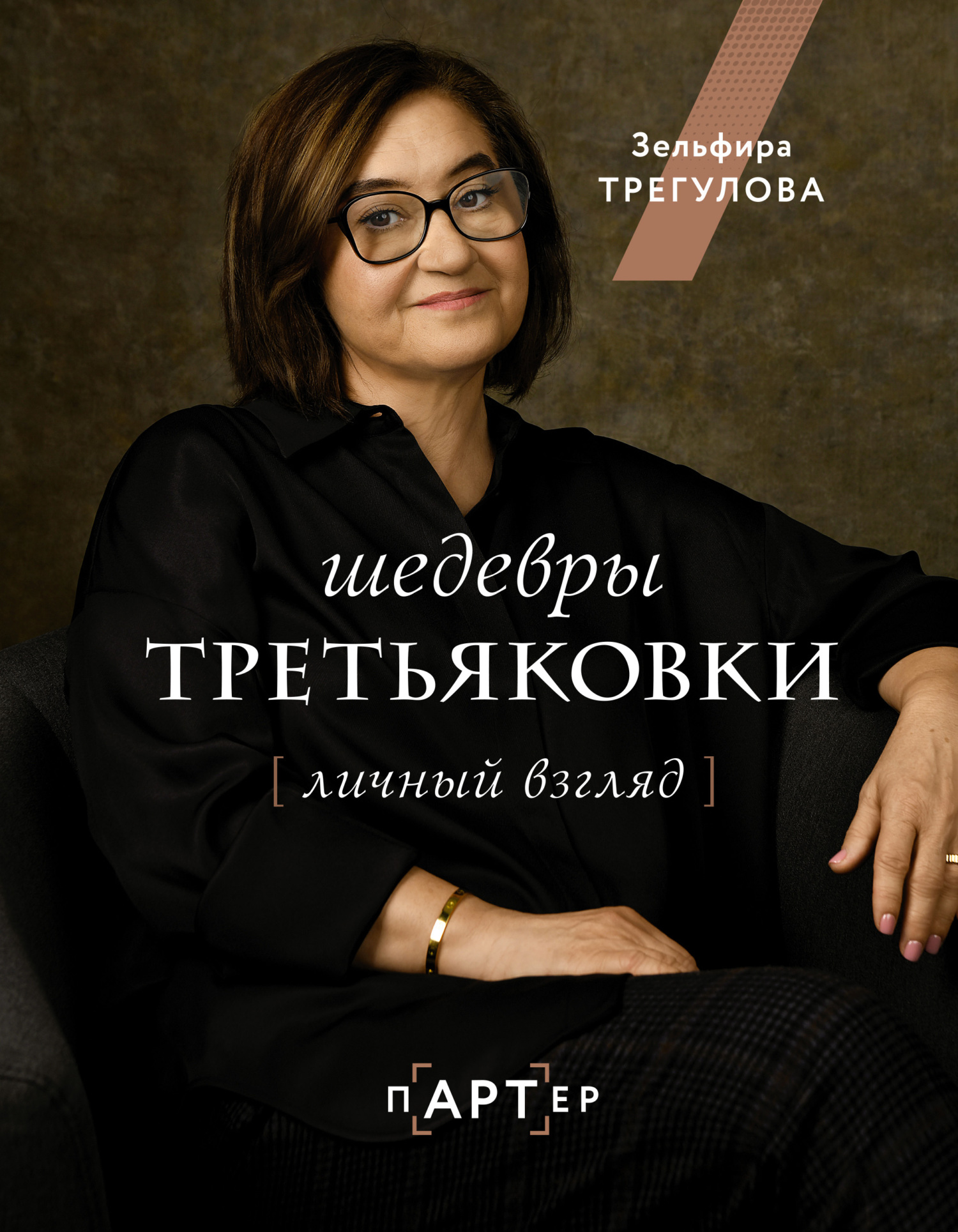знания истории культуры с безусловными литературными достоинствами делает ее высочайшим образцом belles lettres. Этот особый род прозы, узаконенный «Опытами» Монтеня, ни в коем случае нельзя путать с беллетристикой. Емкое русское словечко, дериват от французского словосочетания, имеет совсем другой смысл. Не вдаваясь в сложности литературной классификации, можно сказать, что если в беллетристике автор отказывается от личностного начала и нивелирует свою индивидуальность до полной неразличимости, то в belles lettres, наоборот, именно личность пишущего играет главную роль. В переводе на русский belles lettres звучит как «художественная литература», но буквально читается как «отличные письма» и «превосходные буквы»; более адекватным был бы перевод «хорошая литература».
Прилагательное belles, «красивые», имеющее множество значений, в первую очередь подразумевает качество. Belles lettres должны быть блистательно написаны. Кроме того, lettré еще и «просвещенный человек». Индивидуальность, качество и интеллектуальность – три основных признака belles lettres.
Автора, создающего belles lettres, нельзя назвать беллетристом (во французском языке такого слова и не существует) или даже писателем, скорее ему подойдет определение homme des lettres, что изначально значит «образованный человек». Это французское выражение, идущее из XVIII века, означало свободного человека, достаточно состоятельного, чтобы не делать литературу своей обязательной профессией. Окруженный книгами и полный знаний, homme des lettres был независим как от государства, так и от общества: он занимался тем, чем хотел, и писал то, что хотел. Homme des lettres – дворянин, удалившийся от двора; его прототип, а заодно и архетип – Мишель Монтень. В России homme des lettres мог бы стать Евгений Онегин, если бы он, вместо того чтобы от нечего делать катать в два шара, а потом стреляться с полусовершеннолетним Ленским, уселся писать в доставшейся ему по наследству екатерининской усадьбе. Гораздо лучшее спасение от безделья.
Может ли быть belles lettres плохой? Наверное, да: определение «плохая хорошая литература» имеет такое же право на существование, как и «бедная богатая девочка». Так, наверное, Евгений Онегин бы и писал. Оксюморон, то есть «остроумная глупость», строится на сочетании несовместимого, но в окружающей жизни «живой труп», «умный дурак» и «страшная красавица» встречаются на каждом шагу. Основной жанр belles lettres – эссе (Essais, «Опыты»). Эссе должно быть оригинально, качественно и интеллектуально, иначе оно не эссе, а сочинение на тему. «Образы Италии», конечно, не дневник путешественника, а состоят из отдельных эссе, выстроенных в композиционно последовательное целое. Каждая глава может быть прочитана отдельно и существовать самостоятельно, но полный смысл книги раскрывается только в общем построении, потому что в повествовании место каждого текста очень точно определено и продумано. Пространственная связь в «Образах Италии» – путь от Венеции до Неаполя – столь же условна, как и временная. Античность, барокко, Средневековье, Ренессанс сплавлены в единый рассказ и растворены в современности. Муратов не ставит своей задачей сообщить читателю занимательный факт и точно описать событие или памятник, как то делает путеводитель, как и не собирается, пользуясь выдавшимся временем во время путешествия, передать авторские впечатления и отвлеченные соображения, возникающие по ходу дела. Первое – цель путеводителей, второе – хороших травелогов. Муратов же создает художественный образ не на основе впечатлений, набранных во время путешествия, а на основе продуманного и пережитого за всю жизнь. Для того чтобы создать образ, описания недостаточно. Нужен рассказ, причем сконструированный так, чтобы в нем специфическая частность, не теряя своего своеобразия, стала обобщением. Образ должен быть в равной степени точен, ярок и выразителен, индивидуален и эмблематичен. Муратов, поставив перед собой именно такую задачу, в полной мере с ней справился, что и выделяет его книгу среди многоязычного моря записок, впечатлений и отчетов о поездках в Италию.
«Образы Италии» обычно сравнивают с «Итальянским путешествием» Гёте и «Чичероне» (der Cicerone – гид, экскурсовод, а также – Цицерон; с XVII века эта кличка закрепилась за теми, кто за плату предлагал свои услуги проводника в историю Рима) Якоба Буркхардта. Действительно, книга Муратова должна была заполнить лакуну в русской культуре, не обладавшей каким-либо внятным описанием Италии и итальянского искусства, хотя итальянская тема русскими литераторами была достаточно разработана и текстов, заметок, стихов и даже романов, связанных с Италией, – пруд пруди. «Образы Италии» противоположны как «Итальянскому путешествию», гениальному дневнику и по сути – травелогу, так и «Чичероне» – образцово-показательному гиду. Книга Муратова принципиально другая. Если ее с чем-то сравнивать – именно сравнивать, а не уравнивать, то с романом «В поисках утраченного времени» Марселя Пруста, с Noms de pays: le nom, «Имена местностей: имя», третьей частью «По направлению к Свану».
Муратов, конечно же, не мог знать «В поисках утраченного времени», так как, когда он писал свою книгу об Италии, первый том романа еще не вышел из печати. Зато предтечи у него были те же, что и у англофила Пруста. Муратов прекрасно знал европейскую литературу fin de siècle, как произведения авторов, близких к английскому эстетизму, таких как Джон Саймондс, Вернон Ли и Уолтер Патер, так и французских символистов, в том числе и Esquisses vénitiennes, «Венецианские наброски», Анри де Ренье. Результат оказался схож. «По направлению к Свану» и «Образы Италии» – два примера рефлексии (от латинского reflexio, «обращение назад») в европейской культуре накануне катастрофы, покончившей с belle époque. Гениальный роман Пруста научил человечество наделять мгновенье бессмертием, впечатав его в вечность; замечательная книга Муратова научила русских видеть Италию, став итогом долгого опыта русско-итальянских отношений, чье начало отмечено упоминанием о венецианцах в «Слове о полку Игореве». Гениальность и замечательность, конечно же, разница: в том, что «В поисках утраченного времени» переведено практически на все языки мира, а «Образы Италии» пока достояние только лишь русского языка, есть высшая справедливость. Впрочем, высшая справедливость все время держит на глазах повязку.
Муратова с Прустом особенно роднит та свобода, с коей он ориентируется в пространстве humanitas, то есть в пространстве европейской культуры. Неясная тоска, родилась в русском сознании отнюдь не при Сталине, а намного раньше, воздействует на него с детских лет. Россияне таскают ее с собой по всему миру, как кипятильник для своих чаепитий, и, оказавшись в Европе, тыкают свою неясную тоску во все дырки. А розетки-то других стандартов, возникает замыкание. Русскому духу вообще свойственна неуклюжесть, он в европейской humanitas все норовит так повернуться, чтобы, как в «Идиоте», какую-нибудь драгоценную вазу кокнуть. Италия – родина humanitas и ее святая святых. В Италии русские становятся как-то особо косоруки и косорылы, и великая мышкинская неловкость ощутима как в Гоголе, так и в Иванове, наших самых великих римлянах. Естественная непринужденность, с коей Муратов ориентируется в