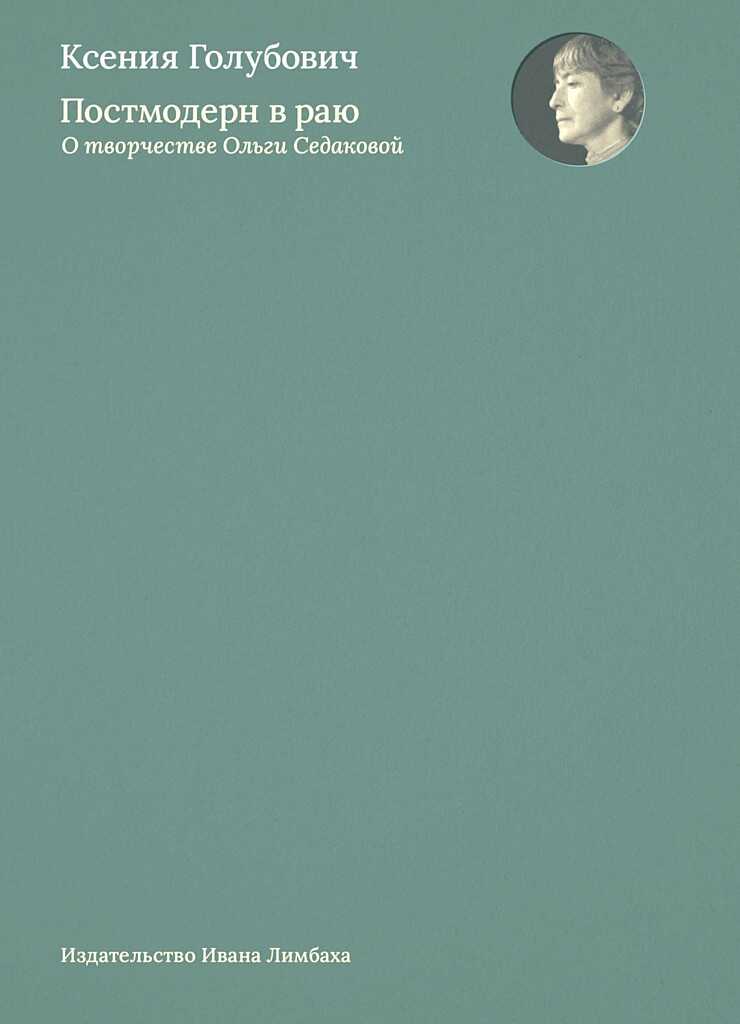она видит то огромное, древнее, что не принадлежит только им, но скорее принадлежит Европе, миру. И потому ее соплеменники, живущие здесь и сейчас, оказываются почти под угрозой. Мне приходит в голову странная мысль о сходстве Ирины и Йована, которые могут видеть этот край извне, словно на столе художника или таксидермиста. А также о странном предательстве художника-индивидуалиста, который именно в силу того, что способен выделять нечто максимально ценное для себя из людей и обстоятельств, наверное, почти всегда предает свою родину…
И, точно соглашаясь со мною, отец и все остальные, кто знает, как талантлива Ирина, говорят: «Она должна уехать». «Я бы хотела жить здесь…» – тихо возражает она.
89. Василий Острожский
Долгий путь на вершину, где врезан храм Василия Острожского. Как когда-то на горе Сен-Виктуар, до пика которой я должна была дойти и где перед самым пиком монастырь, обитель святого Виктуара, – так и теперь, после долгой езды четыреста последних метров мы должны будем пройти пешком. Туда не ходят машины, туда лишь, как живой поезд, задающий твой ритм, идет по узкой тропке толпа паломников. Но пока до этих завершающих четырехсот метров вдоль всей горы кружит, как птица, асфальтовая дорога; она узка, ты долго стоишь и ждешь, пока через какой-нибудь мост проедут встречные, уже возвращающиеся машины, потом кто-нибудь, взявший на себя роль регулировщика, повыглядывав за повороты, машет тебе рукой и ты проезжаешь дальше, кивая из окна остановившимся и пережидающим тебя легковушкам. Путь этот долог, часто он становится бессмысленным, а бессмысленнее еще и то, что сегодня, когда мы едем, вся долина внизу заволоклась белым облаком, туман плывет внизу, небо наверху так же туманно: видимости мало. Есть только асфальтированная дорога и поднимающаяся вверх стена горы. Иногда попадаются дома. Благо, здесь бьют источники, но и то не везде. Вдоль горы я замечаю нечто вроде фуникулера, но только это не фуникулер, а маленькая подвесная дорога для доставки снизу воды. Ехать надо все дальше и дальше, и терпение начинает отказывать отцу, пока наконец мы не подъезжаем к стоянке – огромной поляне, куда ставят без разбору все машины. Недавно прошел дождь, земля скользит под шинами, и остается неясным, сможем ли мы отсюда вообще выехать. «Выбраться отсюда нам только святой Василий поможет», – бормочет мой отец. Мы выходим, и начинаются последние четыреста метров. Все вверх, по крутой тропе, по камням, напоминающим ступени, нарочно или нет. Перед нами и позади нас тянется толпа. Что толпа будет большая, стало ясно уже по количеству машин, встреченных нами на пути. В машинах виднелись не только старушки-бабушки, но и по двое-трое мужчин, молодые женщины с детьми. Это в самом деле место паломничества, у стариков здесь нет привилегии. Мы идем все выше, вот впереди нас поскользнулась маленькая девочка, ее хватают, слегка ругают за непоседливость, и она бежит дальше; отцу тяжело, путь вверх заставляет его задыхаться. Тяжелые кроны августовских деревьев красиво переплетаются над нами. Возле тропы кто-то разбил стекло, видно простую зеленую бутылку, она лежит среди коричневых земляных камешков, как россыпь изумрудов. «Мы не дойдем и за час», – говорит отец. «Мы будем там через пятнадцать минут», – отчего-то совершенно уверенно говорю я.
И мы доходим… до ворот, за которыми мощеная площадь, высокое здание встроенного в стену храма, а впереди – встроенная в боковую стену горы обитель, главный храм, в котором молился Василий Острожский и перед которым его мощи. Храм так плосок и примыкает к горе, что, если бы кому-то захотелось просто войти в него, пришлось бы лезть по приставным лестницам с самого низу. Потому толпа стоит на подстроенном длинном балконе над горой, упирающемся в дальнюю дверь, а посредине балкона – вход в храм, но в этот вход идут только те, кто сначала заходил в дальние двери: мощи святого – там. Толпа стоит тихо и сосредоточенно. Туман застилает видимость внизу горы, и все, что видно,– это спины людей, верхушки дорастающих до каменного балкона крон, пучки травы, выбивающейся из-под его камней. А впереди – я вижу – время от времени отворяется дверь и появляется рука, которая приглашает внутрь. «Так будет и там,– думается мне,– там все будут стоять тихо-тихо, как трава в безветрие, не будет ни мужчин, ни женщин, ни старых, ни малых, все будут просто и как-то окончательно стоять и ждать». Я замечаю, как мало здесь эротического, туман и холод как будто подчеркивают эту тихую самопогруженность толпы, грядущей, как стадо, одними склоненными шеями и округленными спинами. Я знаю, почему нависла вся эта облачная пелена над миром, – он скрыт теперь, люди оставлены одни. Белое-белое, все белое-белое. Тихое-тихое, сокрытое пеленой. Вот рука зовет и меня.
Внутри маленькой часовенки темно. Покрытие в ней красное, и многое в ней – тиары, священническое украшение – за стеклом, как в музее, но главное – открытые мощи, я вижу темную-темную, словно из черного дерева вырезанную ручку святого.
Когда я вижу на самом верху горы эти священные останки, мне кажется, я попадаю в какую-то невыносимую древность. Долго смотреть на эти темные, благородно черные кости я не могу. Это как если слишком долго смотреть на реальность, которая ни в чем не похожа на свои слабые, обработанные нашим сознанием штампы. Кто из поклонников Хеллоуина видел благородные черные кости? Кто из них знает действительно, а не воображает, что знает, человеческое тело?
Выйдя из часовенки, я иду в срединный проход и с балкона попадаю внутрь большого храма. Этот храм – одна из святынь Сербии, он встроен в самую гору. На самом его верху, если подняться по крутой лестнице, точно на колокольню, отгорожена в нише и увита диким виноградом еще какая-то могила. И пока я приглядываюсь к этой могиле, стараясь прочесть, что написано на табличке возле нее, происходит то, на что мы уже перестали надеяться: пелена рассеивается… Вернее, обернувшись на зов отца и подойдя к перилам, я вижу, что облачность проредилась, прояснилась, точно легкая пленка, она еще плавает в воздухе, но мягкие солнечные лучи уже греют землю сквозь ее легкую широкую ленту, и за этим облаком открылась огромным зеленым ковром земля, с тысячью дорог в мягких горных складках, с пестрящими реками. Это чувство пробуждения и есть, быть может, Сербия. Она отлична от той, что видит глаз Ирины, ее глаз видит драматизм рождения Европы, но здесь, наверху, я понимаю, что нет никакого драматизма, нет никакой трагедии, нет никакой политики и нет даже