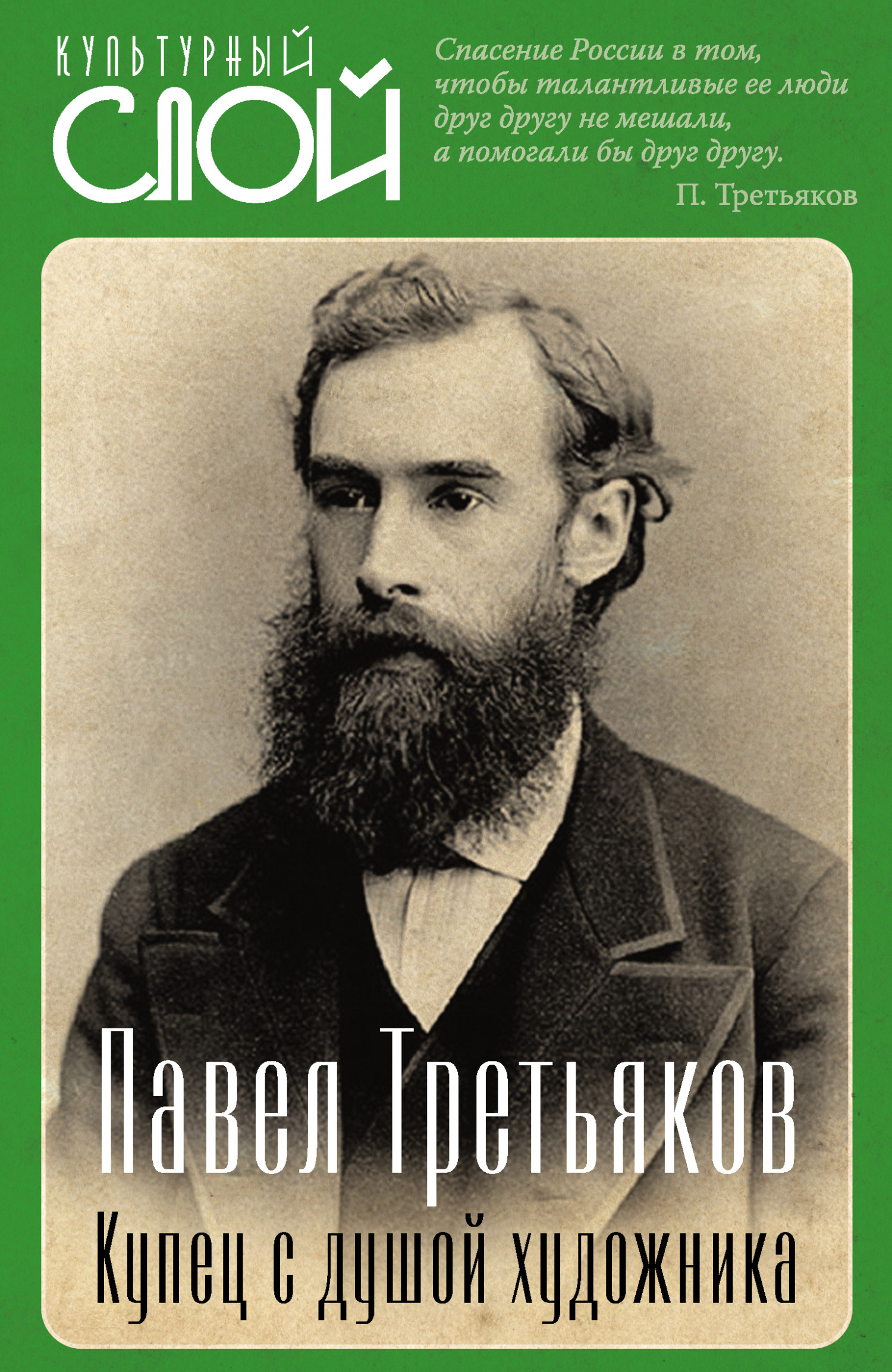Ознакомительная версия. Доступно 23 страниц из 113
непобедимым, первым любовником всех времен и народов. Он – воплощение стиля, недаром имя Казановы стало чуть ли не столь же популярным в художественной культуре, что и мифические имена Дон Жуан или доктор Фауст.
Писатели XVIII века создали много гениальных книг, превосходящих многословного венецианца, но зато картина столетия обрисована им полнее и ярче. Яркость в «Истории моей жизни» достигается за счет мелких живописных подробностей, разбросанных по тексту. Чего только стоит в описании венецианского карнавала сцена, когда Казанова в черной маске и белом костюме Пульчинеллы из легкой ткани дико отплясывает в парлатории, как называлась комната для свиданий в монастырях, привлекая и интригуя всех собравшихся, а затем не может поймать гондолу и замерзает от дикого ветра! Или напоминающее «Тысячу и одну ночь» приключение в Константинополе, когда он подсматривает за плещущимися в фонтане одалисками в саду гарема. Или сцена в римском кафе, куда ему запретил ходить его римский покровитель, но куда юный Казанова тут же отправился, увидел прекрасную девушку, которая оказалась юным аббатом, на вопрос, кто же он, мужчина или женщина, ответившим: «А как ты предпочитаешь». Или встреча с незнакомкой на берегах Рейна то ли в Голландии, то ли в Германии, в шубке, крытой синим бархатом и отороченной белоснежным горностаевым мехом, в синем бархатном платье и остроконечной шапочке из той же материи, вышитых серебром, на фоне только что выпавшего снега. Или представление, что он устроил для некоего курфюрста, купив бродячим актерам дорогущие карнавальные костюмы героев commedia dell’arte из разноцветных шелков и превратив их с помощью ножа в живописные лохмотья, что актеров ужаснуло, а при дворе имело колоссальный успех. Сцены эти выписаны гораздо талантливее, чем отчеты о встречах и явно выдуманные диалоги с великими мира сего, с Людовиком XV и мадам Помпадур, с Екатериной II и Фридрихом Великим, с Вольтером и Руссо. В бытовых зарисовках витает «дух мелочей, прелестных и воздушных», как сказал Михаил Кузмин несколько по другому поводу, и именно он влек к себе мирискусников.
Нельзя сказать, что к галантности XVIII века не обращались и раньше. Мода на неорококо, подражание Louis Quinze (Людовику XV) и Louis Seize (Людовику XVI) была связана с возвращением Бурбонов и Реставрацией, став одним из направлений историзма. В романе «Анна Каренина», написанном в семидесятые годы, гостиная в особняке Бетси Тверской оформлена в стиле неорококо. На это указывают светские сплетники, злословящие по поводу связи Бетси с Тушкевичем: «Вы не находите, что в Тушкевиче есть что-то Louis XV? – сказал он, указывая глазами на красивого белокурого молодого человека, стоявшего у стола. – О да! Он в одном вкусе с гостиной, от этого он так часто и бывает здесь». Толстой в этом крошечном фрагменте отлично передает самый дух неорококо, особо тяготевшего к галантной пасторали. Невинность, сдобренная щепоткой двусмысленности: миловидный Тушкевич, всегда готовый услужить, напоминает о чичисбеях прошлого столетия. Мода на неорококо оказала безусловное влияние на Дягилева, но культ XVIII века, окончательно сформированный в его кругу к середине девятисотых годов, разительно отличался от отношения к нему предыдущего поколения. Отличие ярко характеризуется тем, что интерес к библо (bibelot, безделушка) сменился интересом к скурильностям («скурильность» – особое словечко из жаргона Дягилева и его близких друзей, произведенное от французского scurrile, «непристойность»). В изображении мирискусников галантное столетие лишилось нежно пастельного оттенка пасторали, оно стало ярким, резким, опасным, эксцентричным и экстравагантным. Умиление сменилось пряной иронией.
Сомов и Бенуа наиболее полно отразили новое понимание XVIII века. Главной страной галантного века была для них Франция, тем не менее в их произведениях часто рассыпаны намеки на Венецию, как будто она сидит у них, как и у Казановы, в подсознании. В великолепной ночной сцене «Китайский павильон. Ревнивец» Бенуа точно определить географию места действия нельзя. Часто пишут, что это Версаль, но хотя намек на Версальский парк можно прочитать в изображении стриженых куртин и архитектуры на заднем плане, ни пейзаж с озером, ни павильон в духе chinoiserie («китайщины») никакой реальности не соответствуют, они придуманы Бенуа. К островку с павильоном пришвартованы две гондолы, что читается как указание если и не на Венецию, то на венецианскость. Темное небо, густо усеянное звездами, подразумевает юг, и вся сцена, где бы она ни происходила, вызывает в памяти историю венецианского приключения Казановы с монахиней, интеллектуалкой и либертинкой. Она, обозначенная под загадочными инициалами М. М. (казановаведы до сих пор гадают, кто бы это мог быть), ведет двойную жизнь: то монахиня в монастыре, то обольстительная содержанка знатного вельможи (казановаведы предполагают, что это был кардинал Франсуа де Берни, французский посол в Риме). Став любовницей Казановы, М. М. передает ему ключ от небольшого домика на отдаленном островке, роскошно обставленного и служившего местом тайных оргий. Вся интрига рассказа вертится вокруг этого потаенного места. Ключ М. М. дан по распоряжению вельможи, вуайериста, подглядывающего за любовниками с их согласия. Повествование осложняется еще и тем, что у монахини есть подруга, ставшая любовницей Казановы и пользующаяся все тем же приютом любви. «Китайский павильон. Ревнивец» – ни в коем случае не иллюстрация рассказа, но связь очевидна.
Отсылкой к Венеции выглядит и «Итальянская комедия» Бенуа, представляющая выступление труппы commedia dell’arte, подобное тому, что срежиссировал Казанова, элегантно обрядив актеров в лохмотья haute couture. Сцену определяют как версальскую, хотя актеры commedia dell’arte могли появиться где угодно (Казанова встретил их в Германии), но здесь на фоне темнеющего неба видна аллея из высоких кипарисов, которой в Версале нет. На этом основании нельзя утверждать, что Бенуа имеет в виду Италию, он творит XVIII век вне географии, и для него выразительность важнее конкретности. Ракурс, взятый художником, столь же эксцентричен, как и поступок Казановы, превратившего наряды из дорогих шелков в роскошную рвань. Другая гуашь Бенуа с персонажами commedia dell’arte, «Итальянская комедия. Любовная записка», опять же интернациональна – маленький театрик, на ней изображенный, мог находиться в любом уголке той Европы, что исколесил Казанова. Пусть главных персонажей зовут Пьеро и Арлекин, по-французски, а не Пульчинелла и Труффальдино, характерный наряд, широкий белый балахон и обтягивающий костюм из черно-красных ромбов, удостоверяют их венецианское происхождение. Присутствие троицы главных героев commedia dell’arte, Пьеро, Арлекина и Коломбины, чуть ли не обязательно в каждом галантном празднике Сомова.
Три главные темы галантного столетия мирискусников: театр, карнавал и маскарад – указывают на Венецию. Они взаимосвязаны, но не взаимозаменяемы. Ни в одной столице Европы театр не был столь важен, как в Венеции. По количеству театральных трупп и театральных зданий на душу населения Венеция перегоняла
Ознакомительная версия. Доступно 23 страниц из 113