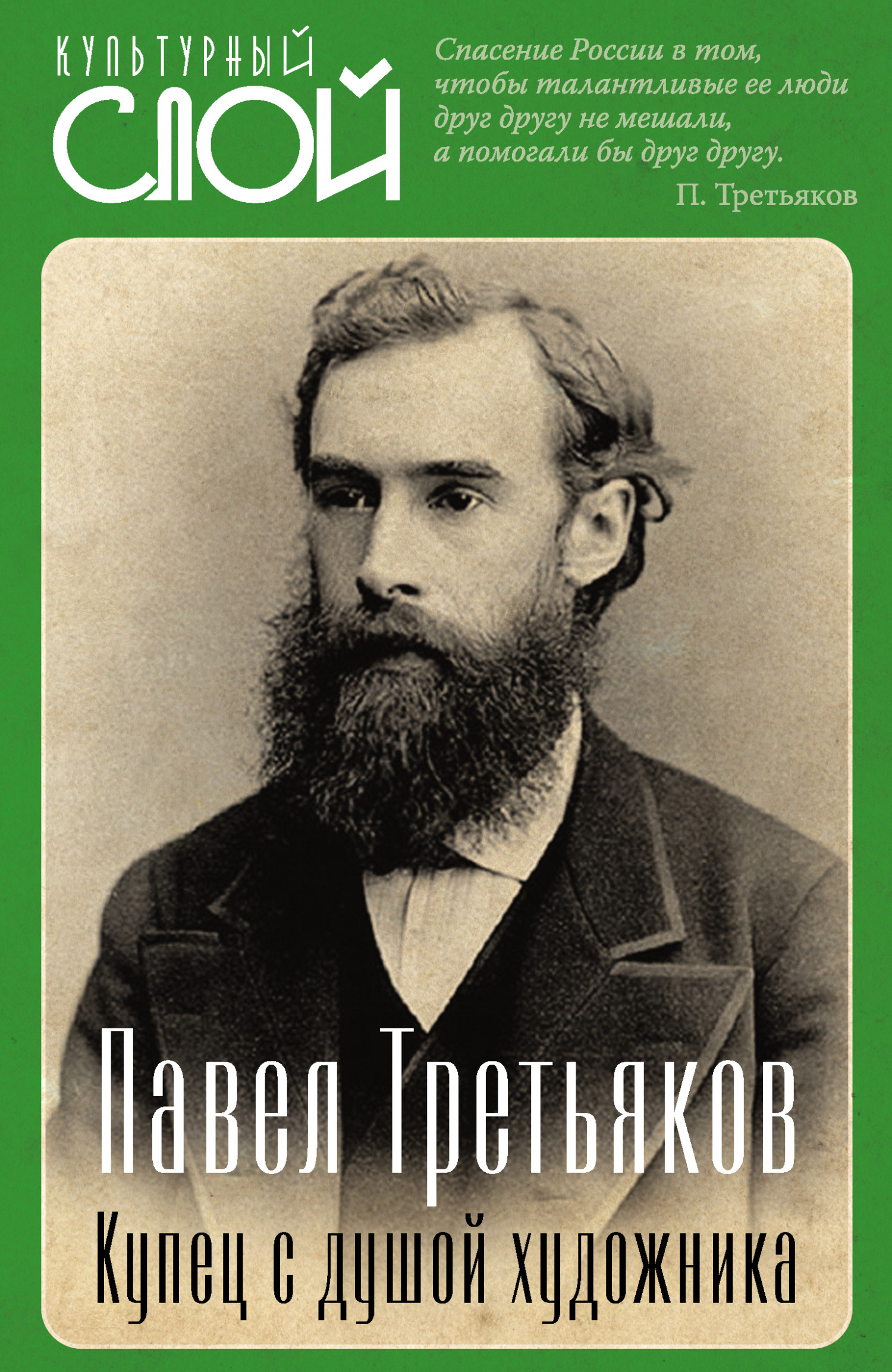Ознакомительная версия. Доступно 23 страниц из 113
и Париж, и Лондон, причем актеров было так много, что из Венеции они разбредались по всей Европе. Увлечение было всенародным в прямом смысле, в театре разница между патрицием и плебеем практически исчезала, а схватка между Карло Гольдони и Карло Гоцци, самая красочная и увлекательная театральная схватка XVIII века, расколола всю Венецию на две враждующие партии.
Театральность – непременное свойство и карнавала, и маскарада, но они не являются театральными представлениями. Карнавал предполагает переодевание и маскарад, но маска необязательна. Теперь любой костюмированный бал называют карнавалом, но как следует из итальянской этимологии (carnevale, «прощай, мясо»), этим словом, соответствующим русскому «мясоед», определяется период между постами. Маскарад может проходить не только в рамках карнавала, и маска на лице, то есть анонимность, – его непременный атрибут. Венеция – мать всех европейских карнавалов, здесь традиция проведения костюмированных празднеств перед Великим постом восходит к XI веку, и именно венецианский карнавал был и продолжает быть главным в Европе. Маска в Венеции XVIII века была частью повседневного быта. Маску разрешалось надевать не только во время карнавала, но и в любое другое время, а в некоторых местах появление в маске было обязательным.
Театр, карнавал и маскарад были важнейшими обстоятельствами жизни Казановы. Он родился в семье актеров, работал в театре и для театра, ел, пил и спал с актерами и актрисами, и театр настолько сплелся с его психофизикой, что реальность в его восприятии стала живописной декорацией для постановки пьесы с ним самим в главной роли. Чисто венецианский гедонизм Казановы, превращая жизнь в постоянный карнавал, всегда помогал ему оправиться после падений, так что больной и старый, замкнутый в ненавидимом им замке Дукс, он нашел утешение в «Истории моей жизни», создавая книгу, в которой вся Европа становится местом действия бесконечного венецианского карнавала. С ношением маски, знака венецианской жизни, Казанова настолько свыкся, что его собственное лицо превратилось в маску, а он – в персонаж, подобный Труффальдино, герою commedia dell’arte, который всегда, в какой бы ситуации он ни оказался, скрывает свое лицо.
Образ XVIII столетия для мирискусников слился с персонажем венецианца настолько, что, когда они произносили «галантный век», подразумевали «Казанова», когда произносили «Казанова», подразумевали «галантный век». Связь сотворила в воображении особый город, Венецию Казановы, город волшебный, неуловимый, скользящий, таинственный и влекущий; жизнь в нем пестра, легка, весела и меланхолична. Яркая разноцветность Арлекина с Коломбиной и рядом – черное домино. Венецианские жизнь и искусство гедонистичны и рафинированы до искусственности, но за их изяществом и непринужденностью различим шепот memento mori. Миф о Венеции, созданный в окружении Дягилева, представлял полную противоположность петербургской реальности.
Год рождения «Мира искусства» можно обозначить как начало периода, получившего название русского Серебряного века, условно длящегося до 1917 года. Даты «1898–1917» условны, так как о границах периода, наиболее сложного как в русской истории, так и в русской культуре, много споров. Идейные и стилевые устремления тех лет многообразны и противоречивы, поэтому точного понимания, что же конкретно значит словосочетание «Серебряный век», нет. Из-за разнобоя и расплывчатости трактовок научным термином считать его невозможно, так что даже написание с заглавной буквы оставляется на усмотрение автора. Историки искусства и литературы под Серебряным веком часто подразумевают кардинально противоположные явления. Тогда декаданс, искусство fin de siècle, цвел бок о бок с первыми ростками авангарда, и привести к единому знаменателю поэзию Блока и Маяковского, живопись Сомова и Малевича не представляется возможным. Отсюда и несхожесть трактовок Серебряного века у искусствоведов, театроведов и литературоведов. Сходятся они лишь в том, что словосочетание, обозначая цветение русской культуры на рубеже XIX и XX столетий, выражает как безусловную ценность, так и вторичность данного периода, ибо русский Серебряный век соотносится с русским золотым веком первой трети XIX века подобно тому, как Луна соотносится с Солнцем, светясь лишь отраженным его сиянием.
Фактическое существование «Мира искусства» составляет краткие шесть лет. Последний номер журнала вышел в 1904 году, тогда же прекратило существование и художественное объединение. Еще недавно взгляды, отстаиваемые журналом «Мир искусства», казались в России радикально новыми и вызывали скандал. В 1910 году Бенуа уже 40, Дягилеву – 38, тон задают более молодые, а то и вовсе юнцы, которым они кажутся таким же старичьем, каким мирискусникам в свое время казались Стасов и Репин. Бурлюк обозвал Бенуа старым башмаком.
Заслуги «Мира искусства» не стоит недооценивать, как делали футуристы. Благодаря журналу и многочисленным выставкам мирискусники добились известности, стали мэтрами, так что система их предпочтений повлияла на следующее поколение, от них перенявшее любовь к XVIII веку, Венеции и Казанове. В первую очередь это касается художников, бывших почти на десять лет моложе основателей «Мира искусства», – Николая Сапунова и Сергея Судейкина, а также поэта Михаила Кузмина, ровесника Дягилева, но заявившего впервые о себе только около 1905 года. Сомов и Бенуа в своих арлекинадах первыми в петербургском Серебряном веке обозначили тот особый образ Венеции, что так влек Дягилева; Кузмин и Судейкин придали ему окончательную форму, но стилистика изменилась. Четкость и тонкость обрисовки контуров, свойственные ретроспективизму первого поколения мирискусников, сменили живописность и открытый мазок, показывающие знакомство Сапунова и Судейкина не только с импрессионизмом, но и постимпрессионизмом. Пьеро, Арлекины и Коломбины остались, хотя модерн сменился модернизмом. Более того, следующее поколение делает чисто модернистский шаг: под Венецию Казановы стилизуется реальная жизнь богемы.
Пьеса «Венецианские безумцы», написанная Кузминым, разыгрывается в костюмах Судейкина не профессиональными актерами, а светскими персонажами. Культовые для богемы кабаре «Бродячая собака» и «Привал комедиантов» украшаются панно на венецианские темы, служащими фоном для костюмированных представлений в духе Казановы. Лучшее в русской поэзии стихотворение, посвященное Венеции XVIII века, написал Кузмин, побывавший в Италии всего лишь один раз – весной 1897 года: «Обезьяна распростерла // Побрякушку над Ридотто, // Кристалличной сонатиной // Стонет дьявол из Казотта». Стихотворение называется «Венеция» и датировано 1920 годом. Строчки «А Нинета в треуголке, // С вырезным, лимонным лифом, – // Обещая и лукавя, // Смотрит выдуманным мифом» собрали, как в фокусе, все приметы венецианской жизни и искусства, что выбрал петербургский Серебряный век для своего образа Венеции. «Смотрит выдуманным мифом» – очень точное определение созданного фантазией волшебного беззаботного города, полного любовных приключений, страстных и необязательных. Венеция XVIII века уже не только для художников и поэтов, но и для всей петербургской богемы десятых годов – мираж, но мираж настолько привлекательный, что он становится образцом для подражания, так что реальность выстраивается по его образцу и подобию.
Название картины Судейкина «Моя жизнь» 1916 года выдает отсылку к
Ознакомительная версия. Доступно 23 страниц из 113