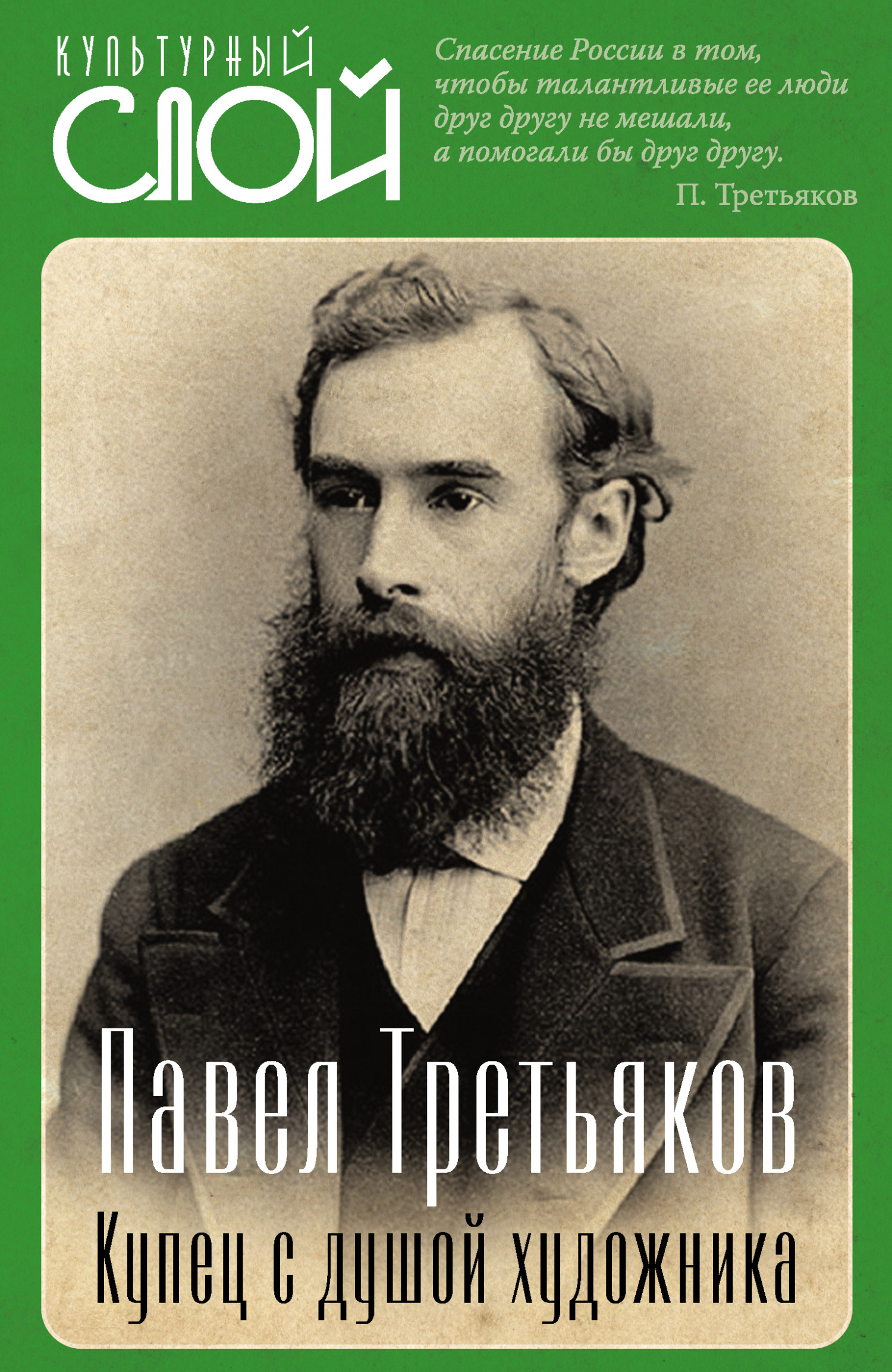Ознакомительная версия. Доступно 23 страниц из 113
«Истории моей жизни» Казановы. Картина автобиографична, но люди, на ней изображенные, несмотря на портретные черты, превращены в аллегорические фигуры. Каждый определен, хотя в идентификациях есть расхождения. В центре, в позе неоклассической танцовщицы, – Ольга Глебова-Судейкина; в позе «Венеры перед зеркалом» Веласкеса лежит Вера Боссе (в первом браке – Люри, во втором – Шиллинг, в третьем – Судейкина, в четвертом – Стравинская); справа от нее – сам Судейкин; слева – Кузмин, углубившийся в чтение какой-то записки; Амурчик с белым голубем – то ли Всеволод Князев, то ли Алексей Павлов, юный друг Судейкина; Пьеро с книжкой в руке определяют то как Всеволода Мейерхольда, то как Юрия Юркуна (Пьеро похож на обоих), то как Князева (на него Пьеро не похож ни капли); юноша в маске с арфой – Артур Лурье; фигура, полускрытая занавесом, – то ли Савелий Сорин, то ли Сергей Городецкий. Столь условно представленные личности в реальности были связаны сложным плетением любовных интриг и дружеских связей, о которых сплетничал весь Петербург.
«Моя жизнь» посвящена петербургской богеме и является визуальным воплощением мандельштамовского «От легкой жизни мы сошли с ума. // С утра вино, а вечером похмелье. // Как удержать напрасное веселье, // Румянец твой, о пьяная чума?», но Пьеро и Арлекин намекают на commedia dell’arte и Венецию. Причем не только они. В картине прочитывается еще одна, более тонкая, ассоциация. Центр картины занимает зеркало, за ним видна горящая свеча, а над ними, в поднятой руке Глебовой-Судейкиной, парит маска. Павел Муратов в «Образах Италии», лучшей книге об этой стране на русском языке, опубликованной в 1911–1912 годах, писал: «Маска, свеча и зеркало – вот образ Венеции XVIII века». Его книга была бестселлером, который читали все. Утверждение, что Судейкин сделал центром композиции зеркало, свечу и маску под непосредственным влиянием Муратова, было бы слишком прямолинейно, но эти три детали настолько важны, что игнорировать совпадения невозможно. Картина посвящена петербургским историям, романам и дружбам автора, но три указания: на «Историю моей жизни», commedia dell’arte и три ключевых предмета венецианского XVIII века – придают ей особое значение.
Да, «Моя жизнь» – жизнь петербургская, но она не то чтобы проходит в особом мире – так сказать было бы не совсем верным, – нет, она создает особый мир, построенный искусством на тех же принципах, на которых оно строит Венецию Казановы, сливая их в «выдуманный миф». Принципа же этих три: театр, карнавал, маскарад. Метафора Готье «Северная Венеция» начинает звучать совсем по-другому, теперь она соответствует не случайным напоминаниям, а внутреннему сходству стиля жизни и стиля мышления Венеции XVIII века и Петербурга начала XX. Картина написана, когда шла Первая мировая, Петербург был переименован в Петроград, и вместе с данным при рождении именем в прошлое уходил имперский блеск столицы, ибо империя скрежетала и трещала, как подбитый снарядом броневик. Memento mori стучало в висках каждого. Строчка «Мы смерти ждем, как сказочного волка» из цитированного выше стихотворения Мандельштама передает настроение, что царило среди богемы. Ожидание смерти было связано с настроениями fin de siècle, постоянно нывшем о наступлении конца, но теперь вот он – конец, он виден и ощутим, и близко время, когда «повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его» (Откровение 18:21). Апокалипсическое ощущение надвигающейся катастрофы нарастало, придавая еще один смысл метафоре «Северная Венеция». Вместе с потерей свободы жизнь из Венеции ушла, она превратилась в город прошлого. Таким же городом прошлого стал и Петербург в «Поэме без героя» Анны Ахматовой, переставший быть столицей и утративший даже свое имя, насильно поменянное на Ленинград.
Одним из претендентов на роль Пьеро в «Моей жизни» Судейкина является Всеволод Мейерхольд. Подобно Дягилеву, Сомову и Бенуа, Мейерхольд был страстным обожателем Венеции XVIII века. Его псевдоним «доктор Дапертутто», заимствованный из «Истории о пропавшем отражении» Гофмана, связывался с маской il Dottore из commedia dell’arte. Дапертутто – маг-злодей, крадущий зеркальные отражения, то есть человеческое «я»; он же действует и в опере «Сказки Гофмана» Оффенбаха, второе действие которой происходит в Венеции. Как гофмановские новеллы, так и опера Оффенбаха были важными составляющими венецианского мифа, но более всего Мейерхольда интересовал Карло Гоцци. Мейерхольд – безусловный авангардист, но, как и многие русские авангардисты, он взрос под влиянием вкусов и взглядов, что определял дягилевский «Мир искусства».
Спор Гольдони и Гоцци, разразившийся в Венеции середины XVIII века и затем переросший в самую настоящую войну, был спором буржуазного французского театра и народной итальянской commedia dell’arte. Сторонником первого был Гольдони, второго – Гоцци. Гольдони брал сюжеты из окружающей жизни, что реализмом мы зовем, а Гоцци писал фьябы, пьесы на сказочные сюжеты, в которых реализма уж никак не разглядеть. Пьесы Гольдони построены на игре актеров, передающей состояния героев в их изменчивости, и он является предвестником новой театральной школы – психологической, а персонажи Гоцци носят маски, их игра гротескна и условна, что делает его театр анахронизмом.
Театр Станиславского выбрал Гольдони, Мейерхольд предпочел Гоцци. Театральный скандал середины XVIII века повторился в Петербурге, развернувшись на 180 градусов: авангардист Мейерхольд в новом режиссерском театре обратился к аристократу Гоцци, заимствовав у него выразительность гротеска и легкость импровизации. Любимой его фьябой была сказка «Любовь к трем апельсинам». Так назывался созданный Мейерхольдом журнал, выходивший в Петрограде в нелегкие 1914–1916 годы. Он был его главным редактором, идейным вдохновителем и он же находил деньги на издание, что было достаточно хлопотно. Журнал, утверждая экспериментальные методы нового театра, был жгуче актуальным, с обязательной в каждом номере хроникой текущих событий, но вместе с тем печатал статьи о commedia dell’arte и переводы из Гоцци, смешивая прошлое и современность в некое постмодернистское, как сказали бы сейчас, единство.
Название журнала неслучайно. Во фьябе Гоцци злая фея Фата Моргана, мстя принцу Тарталье, наделяет его страстью к трем апельсинам. Что за апельсины, почему три, что в них такого, что отличает их от остальных апельсинов, растущих в каждом итальянском саду, как растут огурцы в каждом русском огороде? Гоцци пояснений давать не собирается. Ничем не объяснимая любовь заставляет принца отправиться туда, не знаю куда, дабы там, не знаю где, найти вожделенные апельсины, назначение которых неясно. После долгих мытарств он апельсины получает, и оказывается, что в них заключены три принцессы, о чем Тарталья не подозревает до последнего момента. Сюрреалистическая любовь к трем апельсинам в символическом плане – тоска о недостижимом, что свойственно каждому, кто наделен воображением. Для Мейерхольда эта фьяба стала олицетворением любви к Венеции. Заимствуя у Готье оборот, сопровождающий
Ознакомительная версия. Доступно 23 страниц из 113