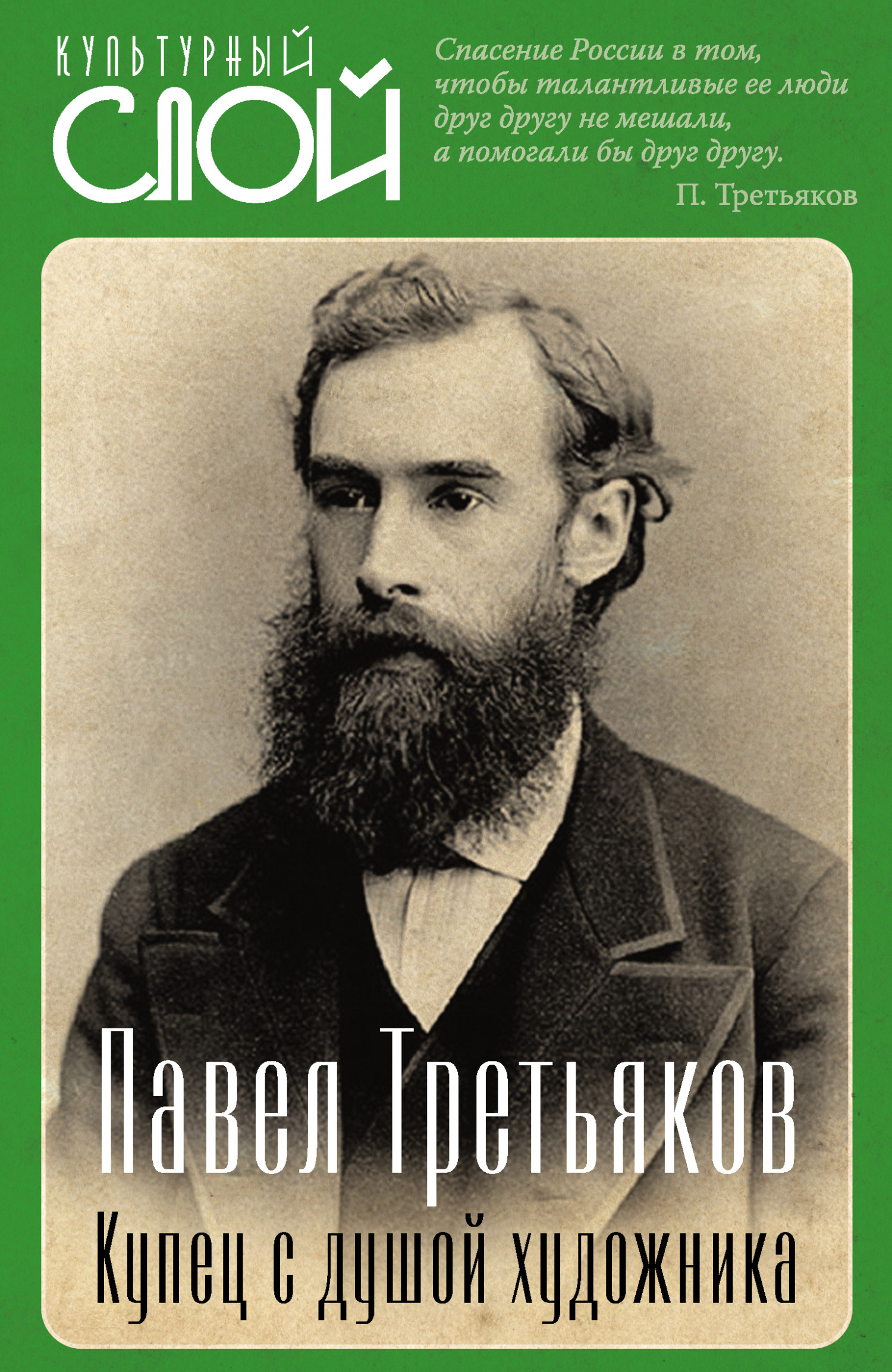Ознакомительная версия. Доступно 23 страниц из 113
его описание сходства бегов по ледяной Неве с состязаниями гондольеров, можно сказать, что Мейерхольд, так и не поставив пьесу Гоцци, как это ни парадоксально, реализовал свою любовь к трем апельсинам, то есть к Венеции, в самой своей петербургской постановке, постановке «Маскарада» Лермонтова.
Авангардист Мейерхольд тесно сотрудничал с мирискусниками. Самый значительный спектакль до переезда в Москву, постановку «Маскарад», он создал с Александром Головиным, работавшим и с Дягилевым. Действие пьесы относится к условным петербургским 1830-м годам, но режиссер акцентировал внимание на сцене, представляющей бал-маскарад, сделав ее центральной, что оправдано названием. Слово «маскарад» тут же вызывает в памяти Венецию, XVIII век и Казанову, о чем свидетельствует сам Мейерхольд.
Ожидаемая всем Петроградом премьера состоялась 25 февраля 1917 года. Грандиозное зрелище в Александринском театре стало последним имперским карнавалом в истории. Через несколько дней Николай II отрекся от престола, не стало ни императора, ни Российской империи, ни императорской столицы, ни императорских театров. «Маскарад» Мейерхольда приобрел символическое значение, олицетворяя старую культуру Петербурга, в последний раз блеснувшего своей роскошью, стараясь казаться Северной Венецией. Главным героем пьесы стал Неизвестный, зловещий безымянный персонаж, обряженный в черное венецианское домино, с закрывающей лицо белой баутой, похожей на маску смерти. Странным образом неестественная поза Мейерхольда на портрете работы Бориса Григорьева, его черно-белый наряд и застывшее как маска лицо напоминают Неизвестного, хотя на Мейерхольде не домино, а фрачная пара и портрет был создан в 1916 году, за год до премьеры. Материализация memento mori Серебряного века. Неизвестный обозначил его конец, наступивший не 25 октября 1917 года, после штурма Зимнего, а после премьеры «Маскарада». Многие поэты и художники проживут еще долгую жизнь, кто-то останется в Петрограде, вскоре переименованном в Ленинград, кто-то уедет за границу, но это будут люди Серебряного века, Серебряный век утратившие. Никто не прочувствовал и не выразил это так глубоко и точно, как Анна Ахматова в «Поэме без героя». В новогоднюю ночь к ней, героине Серебряного века, оставшейся в заснеженном, голодном и холодном блокадном Ленинграде, из прошлого приходит толпа призраков, встреченных словами: «Вы ошиблись: Венеция дожей – // Это рядом…»
«Рядом» оказывается в Фонтанном доме, как с легкой руки Ахматовой стали именовать Шереметевский дворец не только в старинных документах. Там, в Белом зеркальном зале, призраки устраивают бал-маскарад, подобный поставленному Мейерхольдом на сцене Александринки. Главные персонажи бала – герои «Моей жизни» Судейкина, разыгрывающие ту же любовную драму. Важнейшие предметы-приметы в «Поэме без героя» – маска, свеча и зеркало, как у Судейкина и Мейерхольда. В полном варианте поэмы появляется и Казанова. Ахматова отмечает:
Где-то вокруг этого места
(«…но беспечна, пряна, бесстыдна маскарадная болтовня…»)
бродили еще такие строки, но я не пустила их в основной текст:
«Уверяю, это не ново…
Вы дитя, синьор Казанова…»
«На Исакьевской ровно в шесть…»
«Как-нибудь побредем по мраку,
Мы отсюда еще в “Собаку”…»
«Вы отсюда куда?» —
«Бог весть!»
Нет ничего естественнее, чем встретить в Северной Венеции синьора Казанову, направляющегося в «Бродячую собаку». Законченная к 1962 году поэма, действие которой происходит в Ленинграде в 1941 году, вызывает из мрака забвения тени Серебряного века, сотворившего особую, чисто петербургскую Северную Венецию. Определение Готье, казавшееся парадоксом самому автору, перестает быть метафорой, обретя смысл точного соответствия.
«Что жизнь была на жизнь похожа»
К истории замысла выставки «Ярмарка. Торг. Гулянье. Балаган» в Нижегородском государственном художественном музее
Павел Бархан. «Сцена из балета Игоря Стравинского “Петрушка”» (фрагмент). 1920-е годы © Музей Гетти, Лос-Анджелес
В это трудно поверить, но еще ни разу русская ярмарка не становилась темой большой художественной выставки. Ни в России, ни за ее пределами. В Нижнем Новгороде будет первая. И, увы, этой выставке суждено стать последней в судьбе одного из ее кураторов, выдающегося искусствоведа и писателя Аркадия Ипполитова (1958–2023).
О ярмарке, как теме большого выставочного проекта, он думал давно. Ученый мирового уровня и человек глубоких энциклопедических знаний, он разглядел в этом явлении исконное карнавальное начало, пронизывающее насквозь творчество многих выдающихся русских художников. Конечно, тут не обошлось без влияния работ М. Бахтина, посвященных смеховой культуре, где было впервые показано, как в стихии народного карнавала и праздника проявляется характер и память нации. И какие тут открываются бездны смыслов и пророческих совпадений. Однако меньше всего в планы Аркадия Ипполитова и искусствоведа Зельфиры Трегуловой входило намерение сделать юбилейную выставку к дате. То, что в итоге получилось, – это скорее философское размышление о том, как ярмарка из банального места купли-продажи становится самостоятельной моделью мира, некоей художественной вселенной, где вершатся и рушатся судьбы, где в бесконечном кружении карусели угадывается бесцельное движение жизни по кругу, а в залихватском хохоте балаганного Петрушки слышится трагический крик «маленького человека», любимого персонажа русской классической литературы XIX века.
Неслучайно, что в список работ, отобранных Аркадием Ипполитовым, попали и скромные, монохромные, застенчиво немногословные полотна Леонида Соломаткина, рисунки Игнатия Щедровского «Сцены из русского народного быта», трагические натюрморты Ивана Хруцкого. Их сдержанность и тонкий психологизм призваны оттенить цветовой разгул и веселое кипение эмоций в живописи Малявина, Кустодиева, Юона, представленной самыми знаковыми и важными работами этих художников. О том, как рождался замысел, как была найдена художественная формула проекта, из каких ключевых компонентов она состоит, об этом и о многом другом с ЗЕЛЬФИРОЙ ТРЕГУЛОВОЙ побеседовал журналист, критик СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ.
– Как возник замысел выставки, посвященный ярмарке?
– Весной 2022 года мне поступило предложение от руководства Нижнего Новгорода придумать большую выставку для местного художественного музея. В частности, для его нового пространства, пакгауза, созданного Сергеем Чобаном, где он находчиво и смело использовал изначальные металлические конструкции пакгауза, сделанные еще по чертежам Шухова. Я пообещала, что подумаю. А через несколько дней оказалась в Петербурге, где всякий раз старалась среди прочих дел обязательно повидаться с Аркадием Ипполитовым. И неважно, был ли для этого практический повод, или нет. В течение двадцати с лишним лет нашего знакомства мы состояли с ним в особенных отношениях. Я не смею сейчас назвать это «дружбой». Наверное, это слишком высоко. Приятельство? Тоже неточно. По сути, это были очень теплые и притягивающие друг к другу отношения. Помню, мы встретились, чтобы посмотреть его новую выставку, посвященную Казанове. Как я теперь понимаю, это была его последняя выставка в Шереметьевском дворце. А после отправились пить кофе. Тогда-то я и задала ему
Ознакомительная версия. Доступно 23 страниц из 113