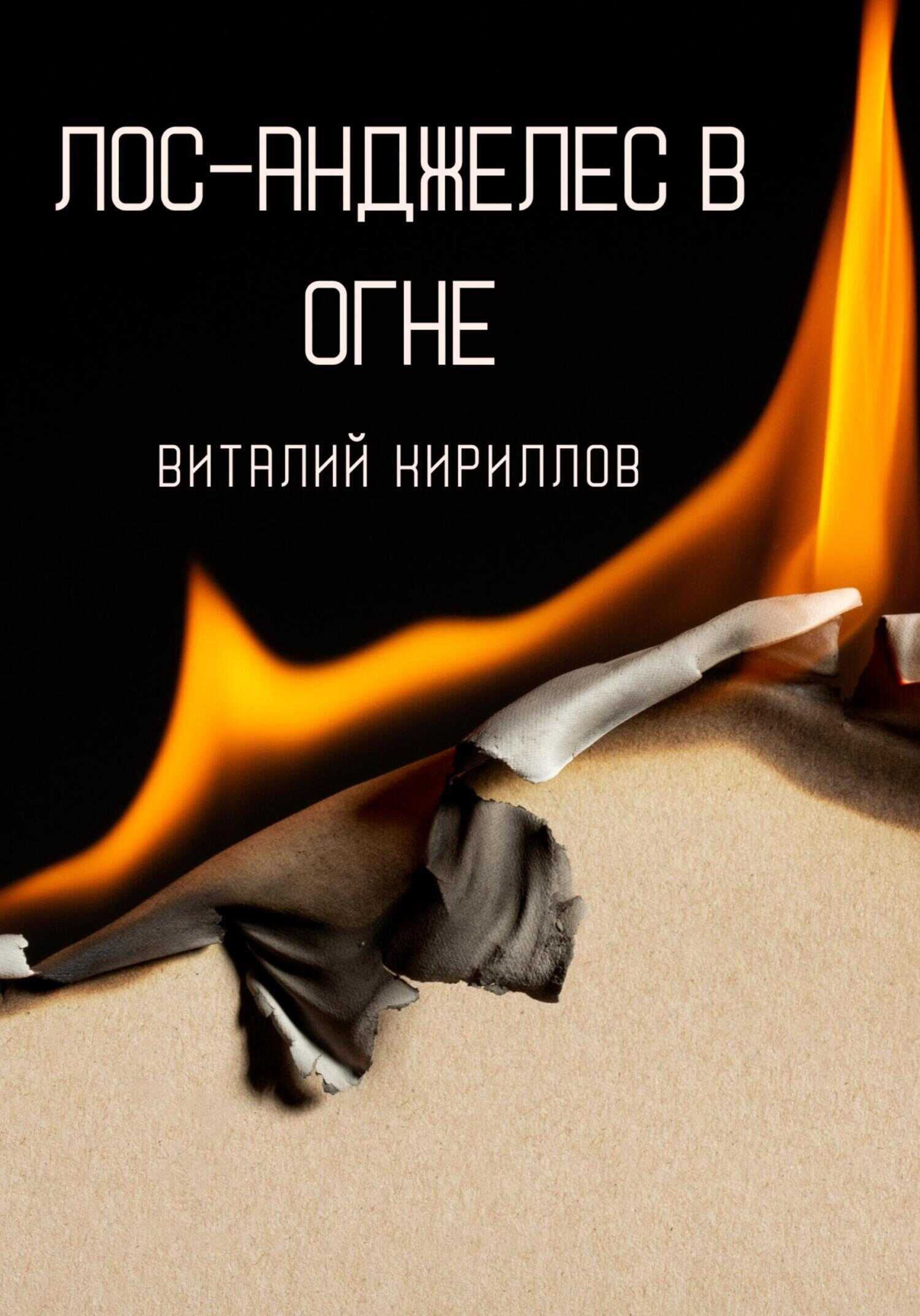стены.
И туда, куда надо было добраться, добраться любой ценой, добрался. Там четверо убийц, вооруженных автоматами, сторожили двух женщин. Он уселся на минарет мечети, чтобы поближе разглядеть лица и принести Старшему хорошие вести.
На самом деле он видел Маму и Дочь с того дерева, забравшись на которое, Старший уснул, и ему приснилось, что он запутался в сари. Выходит, с одной стороны, он близко-то их и не видел. А с другой, в тюрьме люди начинают выглядеть странно. Уменьшающаяся старая женщина в свободном балахоне, по локоть измазанная в грязи, и ее стареющая дочь с лицом, испещренным морщинами от мучений и страданий, которая покрывает голову дупаттой и слоняется из угла в угол.
Потом Коува увидел, что убийцы на самом деле ягнята, и, наверное, борода искусственная, а под ней и брить-то нечего, а вот дочери, у которой пробились усы, похожие на колючки, бритье не помешало бы. И когда поглаживающая цветы старая женщина погрозила ему пальцем и засмеялась, он вспомнил, что, пока Старший смотрел с дерева, она так же была поглощена цветами в горшках на балконе и точно так же сказала: «Даже не думай!» «Точно, это она, совершенно точно». – Он прыгнул чуть ближе.
Никто не знал, догадывалась ли Мама, что этот Коува, который прилетает и сидит на стене, а теперь еще спускается вниз и скачет у нее по клумбам, как-то связан с ее сыном. «Только попробуй портить мои цветы, клевать лепестки и семена – покажу тебе!» – пригрозила она ему, и после этого они стали часто и помногу беседовать. То, чем она делилась только с ним, узнать невозможно. Но можно было увидеть, как он взволнованно кружил, а на его радостном лице расцвела улыбка: «Это точно она! На самом деле! Если бы я только мог сейчас же сообщить Старшему».
Никто не знал, понимала ли Мама его карканье. Но их взаимная симпатия свидетельствовала о том, что контакт и общение не требуют прямого понимания. Если есть связь и любовь, то вместе смотреть на растения, наблюдать, как они зеленеют, молчать – это тоже диалог. Теперь никто не чувствовал себя одиноким: ни Мама, ни Коува.
И все же неоспоримой правдой было то, что вороний народ с легкостью понимал Мамин язык, а люди, творя свою историю, так исковеркали себя, что разучились понимать язык матери, отца и какой-либо другой. Люди отстраняются от всякого события, с ними не связанного, от всякого языка. Запутались в себе, этично-неэтично – все всмятку, кряхтит невнятно, а воронье карканье проносится над головой и исчезает в горах. Выходит, таким, как Мама, приходится расплачиваться за человеческую заносчивость.
Так или иначе, с Коувой они поладили. Иногда молчали, иногда Мамино «ку-ку» среди его «кар-кар». Мама оставляла ему еду и рассказывала обо всем на свете, в том числе о своей первой любви и красочных подробностях их интимной жизни – настолько она доверяла Коуве. С нежностью вспоминала своих детей и детей их детей, с которыми пришлось расстаться. И когда она рассказывала, что Старший с детства был похож на девочку: обожал выметать пыль из углов дома и сидел, скрестив ноги, в театральной позе, подложив ладонь одной руки под локоть другой, пока она рассказывала ему сказки, Коува вскочил и закаркал: «Да-да, кар-кар, я видел эту позу». Мама решила, что это воодушевление вызвал нан с мясом, и дала ему еще немножко, но он не обиделся.
– Картошку будешь? – спросила Мама.
Но он откусил столько, сколько мог прожевать, и отошел, чтобы Мама поняла.
Сложности начались тогда, когда Коува обнаружил, что женщины, которых он отправился искать для Старшего, были в тюрьме. Он стал переживать, как же он сможет оставить их, как их спасти и как эту новость донести до Старшего. Чтобы долететь сюда, ему понадобилось довольно много времени. Он не мог лететь напрямую, потому что приходилось слушать там и спрашивать здесь, и, хотя, по его прикидкам, он летел со скоростью не меньше тридцати километров в час, а то и все пятьдесят, если удавалось хорошо позавтракать, но в начале пути он еще не умел спать на лету, поэтому время сна, и довольно продолжительное, надо добавить отдельно, а еще учитывать все крюки и круги. Возможно, потребовалось тринадцать дней. Или семнадцать. Двадцать три?
Обратно полетит напрямик и даже спать будет на лету, но все равно на это уйдет десять дней. И даже если станет супер-Коувой, уйдет целая неделя. За это время тут какая только беда не может случится? Нет, тогда он не сможет посмотреть в глаза Старшему, не сможет спать на своем матрасе. Сам утопится от стыда в мисочке с прохладной водой.
Когда Мама стала просить, чтобы ее пинали в спину, и падала, сначала он ужасно распереживался. А потом тоже начал смеяться. А потом понял, к чему вся эта забава. Потому что услышал то, что Наваз Бхаи тайно сказал Маме, а потом Мама сама сказала Коуве, что Али Анвар согласился.
Никто не знал, что теперь он тренировался полуспать-полубодрствовать, даже когда не летал, а обитал он в стенной нише над закрытой дверью, которая была открыта. Если кто-то приходил, он всегда знал об этом.
32
Той ночью Наваз Бхаи прокрался тенью. Мама, уже давно ставшая тенью, ждала снаружи во дворе. Обе тени, бесшумно затворив дверь, вышли на улицу. Охранники, Дочь – никто не проснулся. Но эти двое не знали, что Коува, сделавшись тенью теней, полетел с ними, и не два существа, а три отправились в дом большого господина сквозь хайберский туман.
Коува не знал, почему его дыхание застряло в горле, а по мере того как перед ним разворачивалась сцена, оно превратилось в кусок ваты и заполнило горло целиком.
Мягкий свет ночника слегка дрожал, как будто от хайберского ветра, а на лицах дрожали отблески любви. Возлюбленная и возлюбленный. Жена и муж.
Если двое становятся свидетелями удивительного зрелища, слой за слоем открывающегося перед ними, то из незнакомцев они превращаются в близких друзей. А от подозрений и страха не остается и следа, как будто сам Кришна, похититель сердец, смел их напрочь, и, поддавшись новому прекрасному чувству, двое скользят навстречу друг к другу и соединяются дружбой. Пусть один из них – вороний отпрыск, а другая – куропатка.
Вибрации любовной раги всегда такие. Очищают воздух и все, до чего долетают.
Вот почему говорят, создавай прекрасное, пусть искусство и музыка заполнят атмосферу, тогда все порождения омраченного ума рассыплются в прах. И потекут