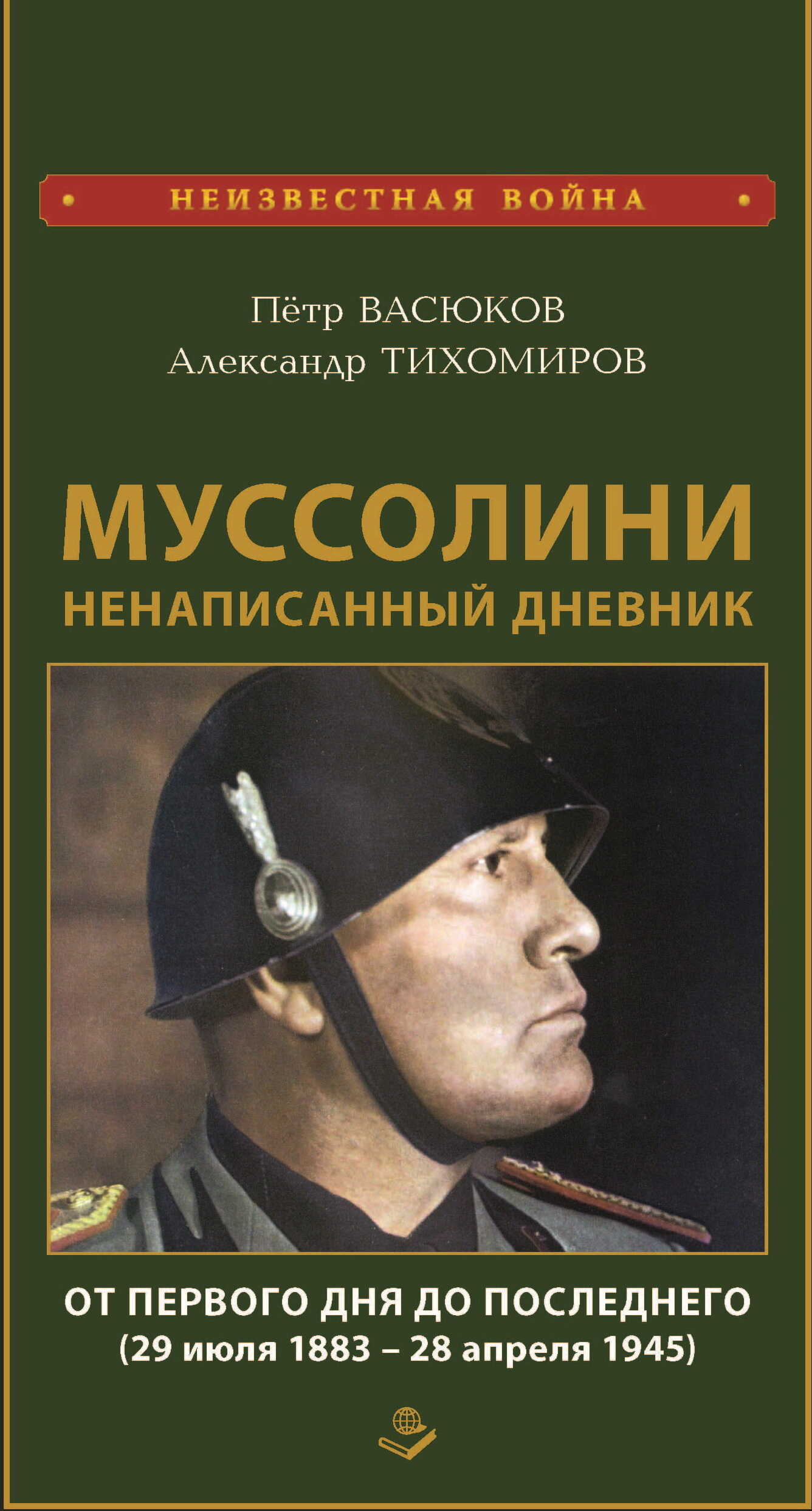держал повара, но был очень неприхотлив в еде и, обладая хорошим аппетитом, ел почти все с удовольствием, хотя вполне умел оценить достоинства тонкой кухни. Я очень неприхотлив относительно стола, и минскому пустыннику это было хорошо известно, – тем не менее он начинал тревожиться однообразной простотой своих обедов и ужинов, старался придумать что-нибудь новое; точно так же несмотря на отличную выправку своего слуги относительно ухода за гостями, он часто беспокоился, что чего-нибудь недостает – одним словом, присутствие самого нетребовательного гостя все-таки доставляло ему некоторые тревоги. Мне самому его распределение дня очень нравилось, нравилась также и педантическая строгость, с какой это распределение выполнялось. Мы встречались за утренним чаем в 8 часов с небольшим, просиживали за ним около получаса, в очень хорошую погоду гуляли немного, а потом часов в 9 расходились по своим комнатам до обеда, подававшегося всегда ровно в час дня. Оба мы ели очень, быть может, даже слишком, быстро, да и обед обыкновенно состоял всего из двух блюд, так что на это мы тратили немного времени, и отправлялись гулять часа на два. Оба мы были привычны к одиночным прогулкам и потому иногда шли вместе, не говоря ни слова, почти не замечая друг друга; случалось, что я, ходивший немного быстрее, незаметно для себя уходил вперед и потом, спохватившись, оглядывался, замечал товарища по прогулке саженях во ста или более сзади, поджидал его, а потом опять шли прежним порядком. Иногда, впрочем, мы продолжали разговор о чем-нибудь, начатый за обедом и не оконченный, и в этих случаях беседа большей частью не прерывалась до конца прогулки. Случалось также, Чайковский говорил еще за обедом, что он пойдет гулять один, – это значило, что он занят сочинением, и одиночная прогулка была его любимым временем для обдумывания общего плана, а иногда и для изобретения тем, ради чего он постоянно имел с собою записную книжку, куда и заносил, что приходило ему в голову. После прогулки, в 31∕2 часа был чай, а потом мы опять расходились по комнатам до 6 часов, зимой даже позже, потому что не гуляли, а летом делали опять прогулку перед ужином, который додавался ровно в 81∕2 часов. После ужина Петр Ильич не работал, за исключением самых редких случаев.
Одно время по вечерам он писал иногда свой дневник, который вел несколько лет, так что дневника набралось много переплетенных томов, ио он должен был остаться тайной навсегда и для всех без исключения. Со своих братьев Петр Ильич взял слово, что тотчас же после его смерти они сожгут дневник, не открывая ни одной страницы. Как-то дневник прервался, просто не хотелось его писать, а потом желание и не возвращалось. Иногда сам автор дневника раскрывал тот или другой том и прочитывал записанное. Записаны были интимнейшие вещи и между прочим некоторые чужие тайны. Однажды вечером, как рассказывал Петр Ильич, он, сидя один, раскрыл том дневника и попал на одно из подобных мест; вдруг ему пришла в голову мысль, что он может умереть совершенно неожиданно, не имея при себе никого из близких, и что чужие люди безо всякого злого умысла могут заглянуть в дневник и увидать одну из подобных тайн; мысль эта привела в такой ужас автора, что он тотчас же велел затопить камин и том за томом сжег все. После иногда он высказывал сожаление об этом, но говорил, что так все-таки лучше, спокойнее.
По окончании ужина слуга убирал со стола, оставлял бутылку вина и в девять часов или в начале десятого уходил к себе и был свободен до утра. Оставаясь вдвоем, мы большею частью начинали играть на фортепиано в четыре руки; запас таких переложений у Петра Ильича всегда был большой. В таких случаях мы много раз играли сочинения Брамса; Чайковский очень уважал этого композитора за его искренность, серьезность и отсутствие погони за успехом, но в то же время мало симпатизировал его произведениям, находя их слишком сухими и холодными. Он склонен был приписывать отсутствие симпатий недостаточному знакомству с Брамсом, недостаточному пониманию его сочинений, но повторенные опыты их проигрывания не изменили первоначального к ним отношения. Довольно часто играли мы также Глазунова, у которого он находил много талантливого. Иногда музыка сменялась или заменялась чтением вслух, причем чтецом почти всегда был я, потому что вкусы наши в этом отношении были совсем противоположны. Привыкнув к быстрому чтению глазами, я должен усиленно напрягать внимание, чтобы не потерять нити, слушая сравнительно медленное чтение вслух, но сам могу читать не без удовольствия; Петр Ильич, напротив, очень любил слушать чтение не только новых вещей, но и старых любимцев из русской литературы; кроме того, он находил, что я довольно хорошо читаю. Новое талантливое произведение приводило его в полное восхищение; один из примеров такого восхищения я вспоминаю, хотя дело шло об очень коротеньком рассказце.
Однажды, не помню в каком году, я проводил Страстную и Святую недели в Майданове; стояла скорее зима, нежели весна, хотя все-таки снег снизу подтаял, и на ходьбе часто приходилось проваливаться в воду, но мы ходили в таких сапогах, что это было не страшно. Во время вечерних чтений мы прочли, между прочим, новый рассказ А. П. Чехова, помещенный в «Новом времени»; названия рассказа я теперь не припомню, но действующими лицами в нем были священник и дьякон, а время действия, кажется, канун Пасхи. Рассказ, если не ошибаюсь, был прочитан два раза кряду, потому что чрезвычайно понравился нам обоим, а Петр Ильич не успокоился до тех пор, пока не написал к А. П. Чехову письмо, хотя он его лично не знал и нигде до того времени не встречал; письмо было адресовано в редакцию «Нового времени» с передачей адресату. Об этом я узнал долго спустя, потому что в самый момент написания мне о нем ничего не было сказано; письмо, кажется, дошло по назначению.
Мы были у пасхальной заутрени в майдановской церкви; утром нас посетил церковный причт, а к обеду, кажется, приехал из находящегося по другую сторону Клина села Демьянова С. И. Танеев, который отправился потом гулять с нами. Петр Ильич очень любил крестьянских детей и очень баловал их, даже портил подачками разного рода, преимущественно мелкими деньгами. Мы с С. И. Танеевым укоряли его за это, говорили, что он развращает детей; обвиняемый с горестью сознавался, что это, пожалуй, правда, но мало подавал надежды к исправлению. Однако, отправившись гулять, он решился сделать героическое усилие для