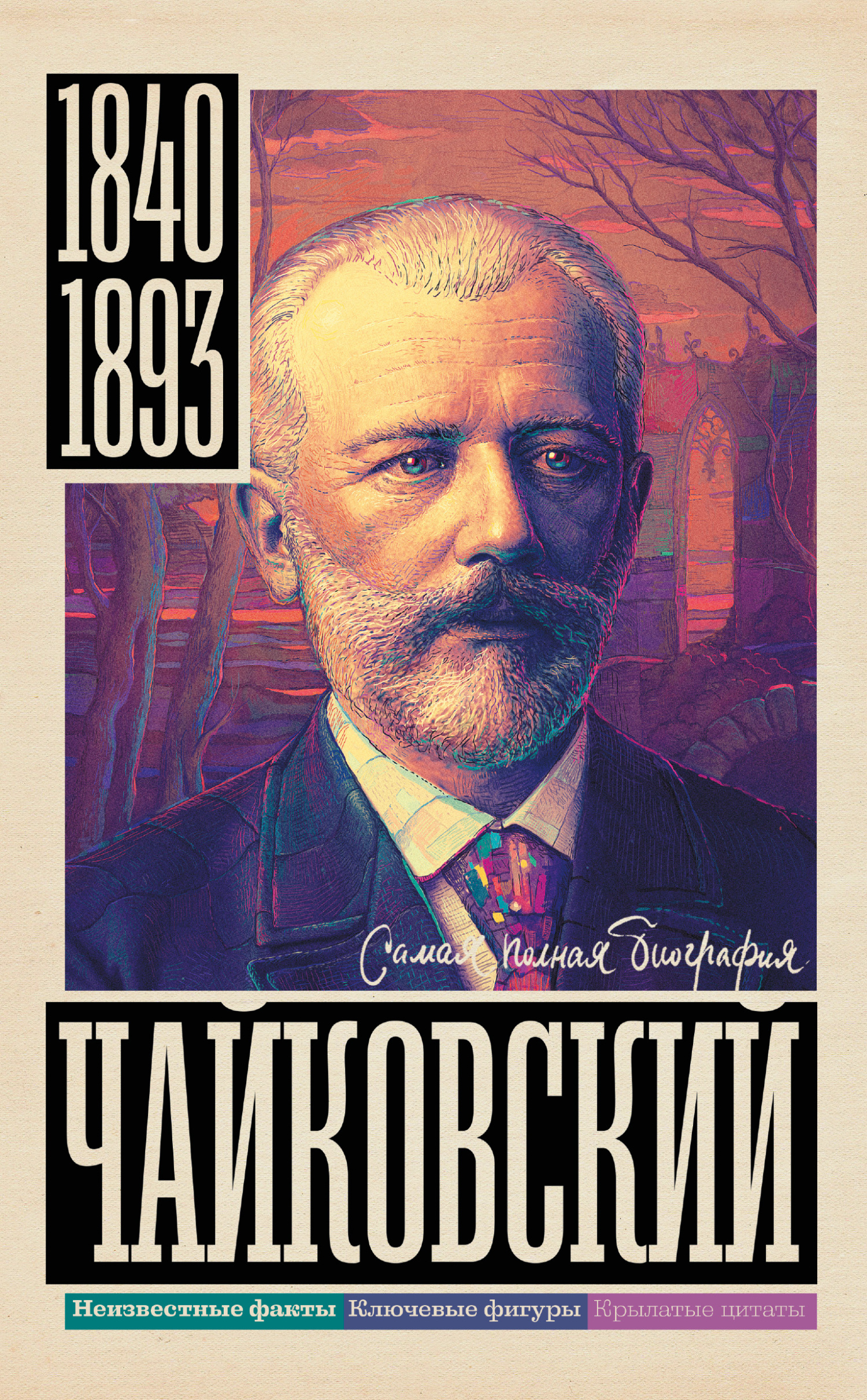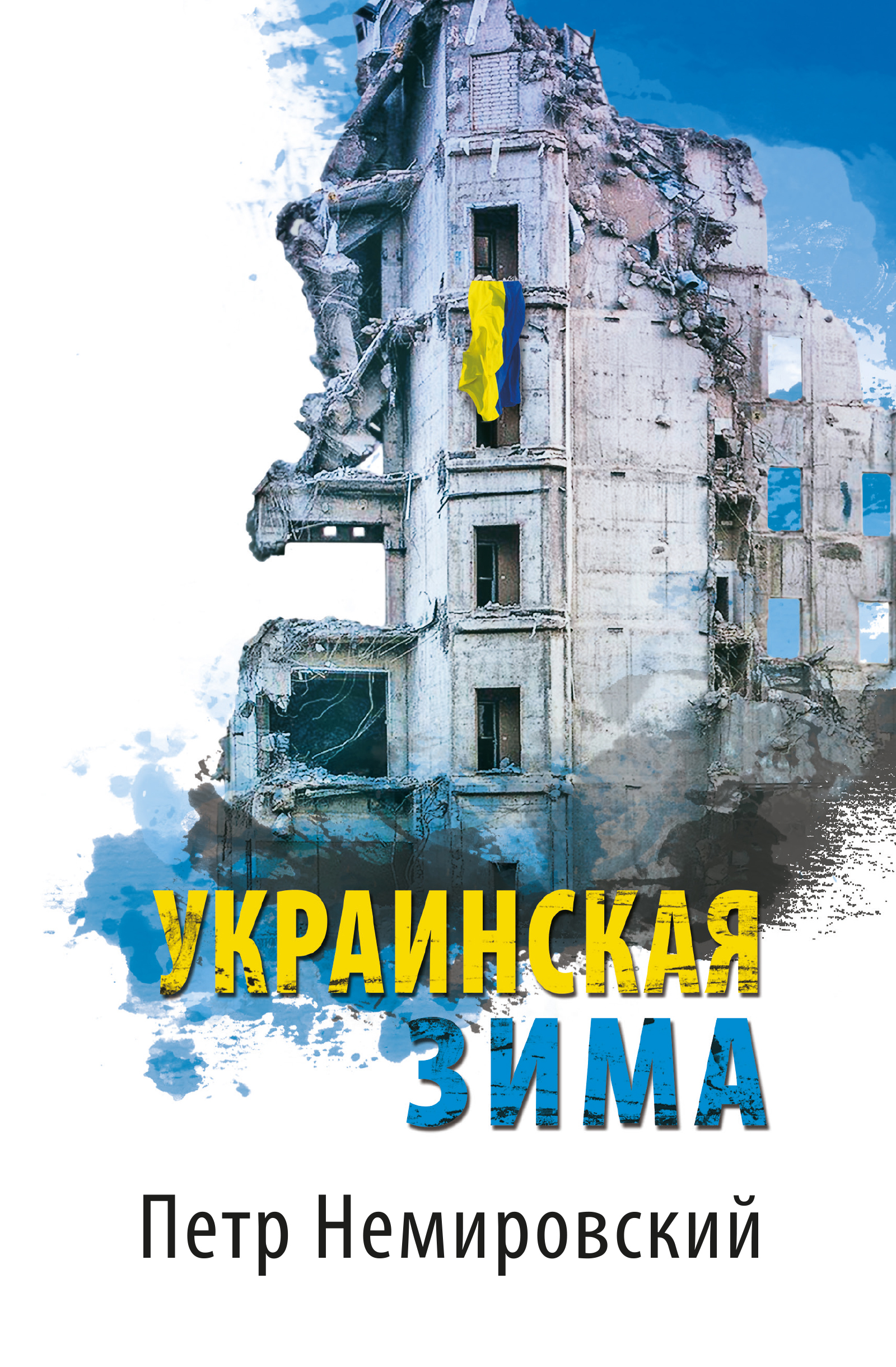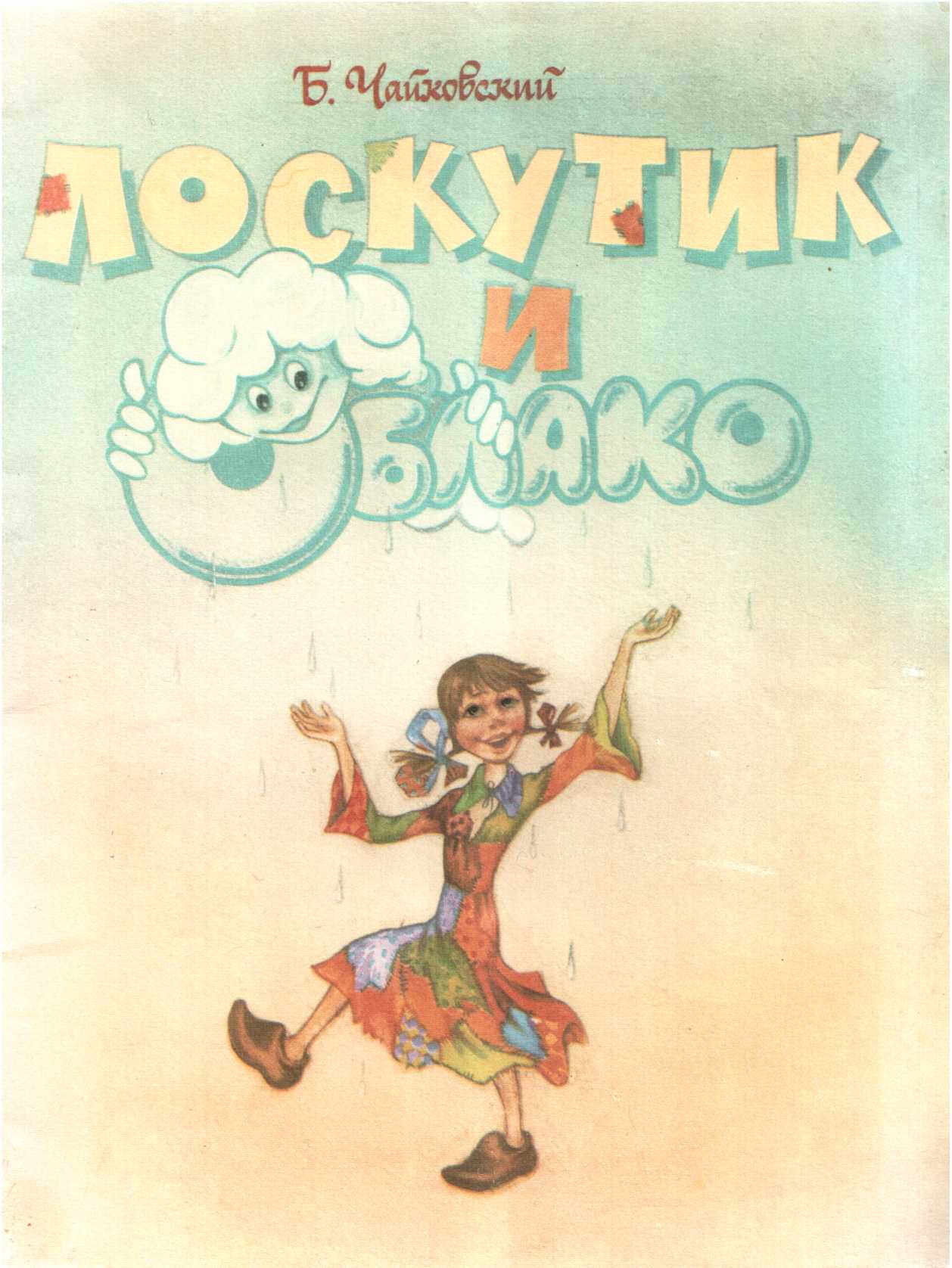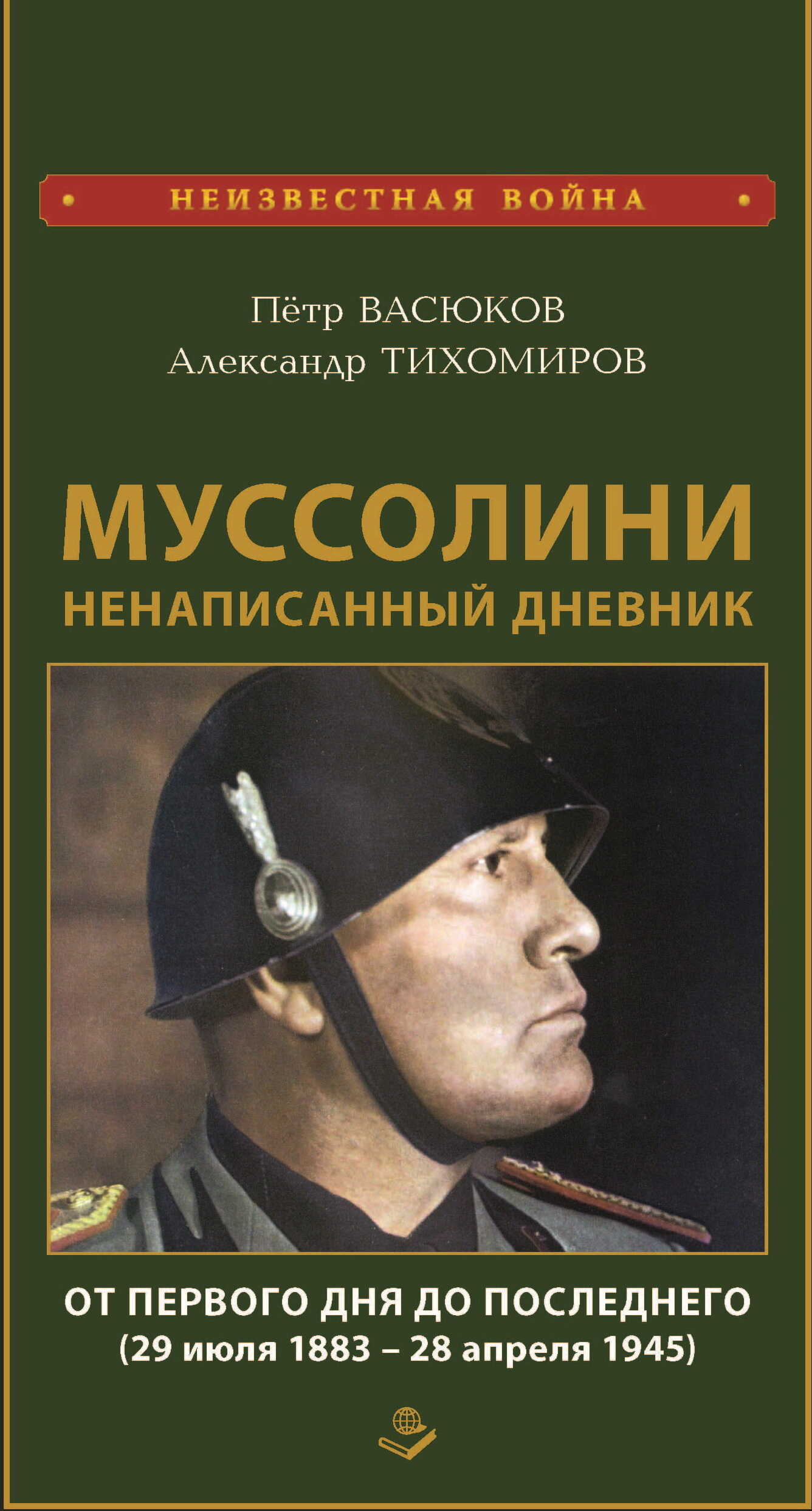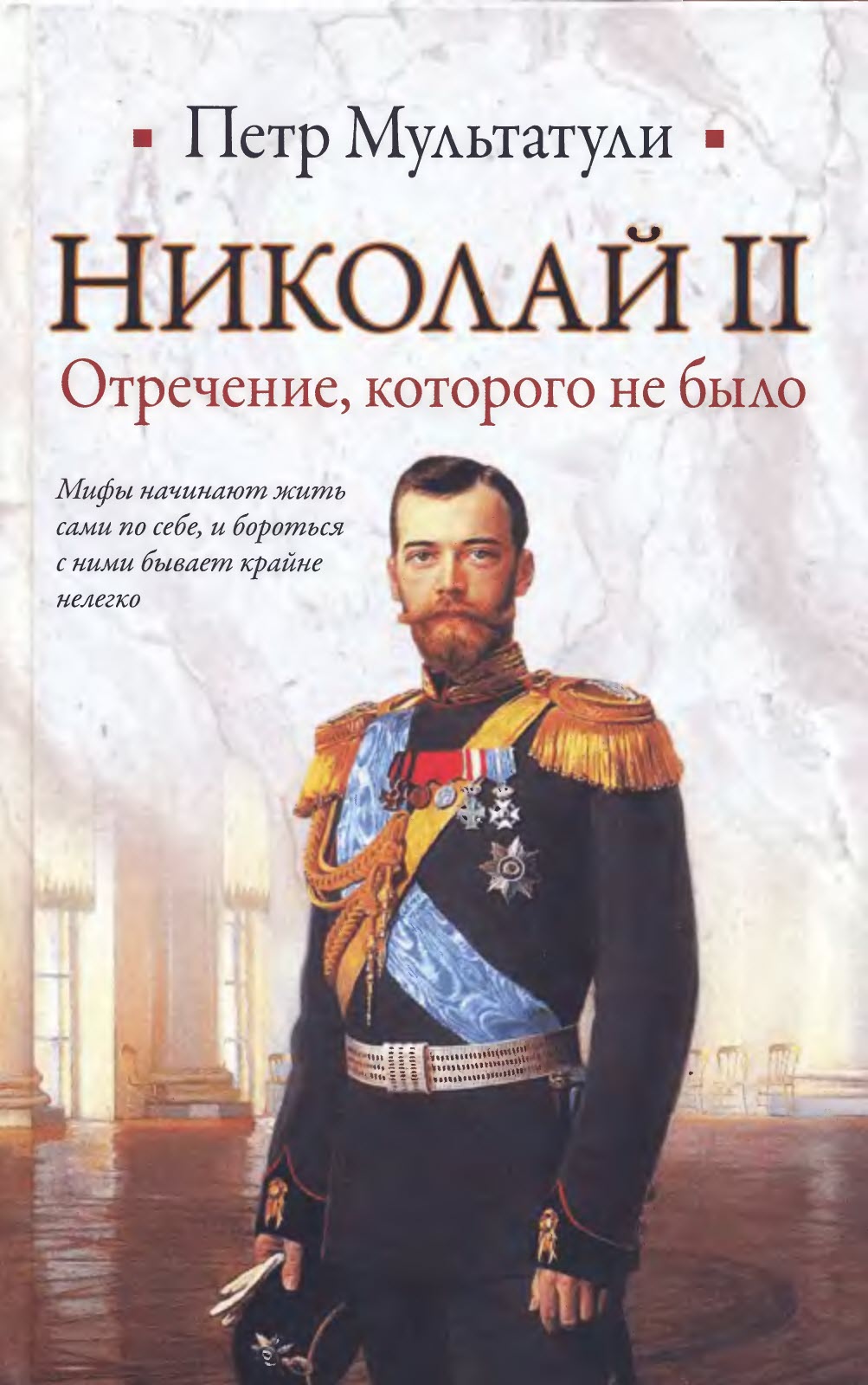избежания поборов со стороны ребят. Мы шли парком вдоль берега реки, направляясь к мосту через Сестру по дороге в Клин. Время прогулок Чайковского в селе отлично знали, и он сам знал, что его, наверное, сторожат при выходе из парка, поэтому он решился обмануть своих преследователей и, оставив нас идти по дорожке парка, сам спустился к реке и стал, нагибаясь, нырять в густом лозняке, стараясь незаметно пробраться к мосту, между тем как наверху оставшийся со мною спутник с пафосом декламировал, глядя на согбенную фигуру убегающего: «И вот злонравия достойные плоды». Однако невинная хитрость не удалась, ребята, вероятно, изучили уже характер своей жертвы и везде расставили наблюдательные посты. Мы вскоре услышали издали радостные призывные клики, мелькавшие перед нами за парком мальчуганы опрометью бросились туда, и когда мы подошли наконец ближе, торжествующий неприятель уже удалялся шумною толпой с добычей, а бедный друг наш, весь красный от волнения и сконфуженный, ждал нас и оправдывался тем, что ничего не мог сделать, но зато дал ребятам очень немного, совсем пустяки; последнее он считал смягчающим обстоятельством в своем проступке. Насколько он был правдив относительно незначительности взятой с него контрибуции – не знаю, но однажды на прогулке со мной он роздал захваченные с собою семь рублей мелким серебром и сверх того отобрал у меня всю бывшую в кармане мелочь.
Сравнительная людность Майданова летом и отсутствие вблизи леса заставили Чайковского искать себе другого места, но также в окрестностях Клина, очень ему полюбившихся, как и самый город с его старинным собором. Однажды мы вместе ходили смотреть усадьбу верстах в пяти или шести от Клина; место оказалось очень хорошее, дом очень большой и хорошо устроенный; хозяин, петербуржец, очень образованный и любезный человек, но, к несчастью, вблизи дома были один или два флигеля, отдававшиеся на лето дачникам, что уничтожало все удобства. Потом найдена была, не знаю каким образом, усадьба в селе Фроловском, верстах в семи от Клина по направлению к Москве. Белая церковь села Фроловского, стоящая на высоком, открытом холме, вся видна с линии железной дороги и сзади нее выглядывает господский дом, в котором Чайковский прожил три или четыре года. Дом был старый, запущенный, уставленный старинной мебелью; по стенам висели разные гравюры, литографии и фамильные портреты, написанные без особенного искусства, но иногда с несомненным талантом. Обширный парк был тоже запущен, а к нему прилегала хорошая, довольно большая роща. Чайковскому это место чрезвычайно понравилось, да и наемная плата была не высока, что также имело свои удобства, потому что автор «Онегина», хотя и получал от своих сочинений весьма хорошие доходы, но так распоряжался ими, что при скромной жизни очень часто бывал без денег, слишком много их раздавая всем просящим, а иногда и не просящим.
Мне припоминается один случай, характеризующий отношение Чайковского к деньгам. Однажды в 1891 году мы отправились в гости в имение к одному знаменитому артисту, который приехал за нами на железнодорожную станцию, и мы отправились потом вместе. Ехать в экипаже пришлось час или более, шли разные разговоры; между прочим, наш амфитрион спросил: «Петр Ильич! Где вы помещаете свои капиталы?» В ответ на это Петр Ильич сначала в полном недоумении широко раскрыл глаза, потом разразился безумным хохотом: ему никогда в жизни не приходила мысль о возможности помещать капиталы иначе как в виде расходов или подарков. Я тотчас же, конечно, понял, в чем дело, но собеседник наш стал недоумевать о причинах неожиданной веселости своего гостя. Тот наконец, совсем почти задохнувшись от смеха, прерывающимся голосом сказал, что в последний раз он помещал капиталы в Московской гостинице, где останавливался, а где будет помещать в следующий раз – не знает. Для человека сколько-нибудь практического такое отношение к деньгам просто невероятно, но у Чайковского оно было именно таким.
Во Фроловском я гостил несколько раз. Однажды были приглашены слушать только что оконченную «Пиковую даму» несколько человек из консерватории. Почему-то я приехал днем раньше всех, и композитор тотчас же после обеда начал мне играть свою оперу по порядку, с начала. В первой картине я похвалил балладу Томского. «Какой вздор! – с досадой воскликнул композитор. – Слушай дальше». Сцена Германа с Лизой во второй картине привела меня в совершенное восхищение, но на этот раз мои выражения восторга были приняты благосклонно. После коротенького перерыва, во время которого автор сказал мне, что он чрезвычайно доволен своим подражанием Моцарту в интермедии следующего акта, игра продолжалась. Интермедия сделана действительно мастерски, но я был выбит из первоначального настроения, остался как-то холоден и только заметил, что нумер, называвшийся сарабандой, не имеет ни ритма, ни характера этого танца; название было немедленно уничтожено. В следующей картине, сцене в спальне графини, Чайковский заставил меня играть фигуры альтов и басов, а сам играл остальное и пел. Эта картина, несмотря на сравнительно слабое окончание, произвела на меня глубочайшее впечатление, и я не мог вымолвить ни одного слова. Сам автор был взволнован, мы встали из-за фортепиано и оба порознь несколько времени молча ходили по комнатам. Удивительно сильна и поэтична оказалась сцена с призраком графини; такая даже незначительная деталь, как зоревая фанфара, давала, казалось мне, особенно поэтичный оттенок музыке; таинственные гармонии, сопровождающие появление призрака, тоже очаровали меня. Остальные две картины опять несколько расхолодили впечатление, хотя застольная песня Германа очень понравилась.
Автор был доволен в общем впечатлением, произведенным на меня «Пиковой дамой», и сообщил некоторые подробности ее сочинения. По его словам, с сюжетом этим к нему приставали года два, сначала он просто смеялся над мыслью написать оперу на этот сюжет, «потом, – говорил он, – мне пришло в голову, что сцена в спальне у графини великолепна, а потом и пошло и пошло». В черновом наброске «Пиковая дама» была написана в шесть недель, во Флоренции. По рассказу композитора, он так увлекся сюжетом во время писания, что вполне уверовал в истинность происшествия, и когда окончил последнюю сцену, то ему стало очень жаль Германа, он начал его оплакивать горько, и решив, наконец, что не может оставаться в городе, где Герман умер – то есть во Флоренции, уехал на следующий день в Рим. Чайковский рассказывал со смехом о своем сумасшествии, как он говорил, но я не смеялся, припоминая другую оперу, в которой подобное же увлечение сюжетом доставило ему большое несчастие.
На другой день приехали остальные гости, и я опять прослушал «Пиковую даму», только на этот раз играл, кажется, А. И. Зилоти, большой поклонник