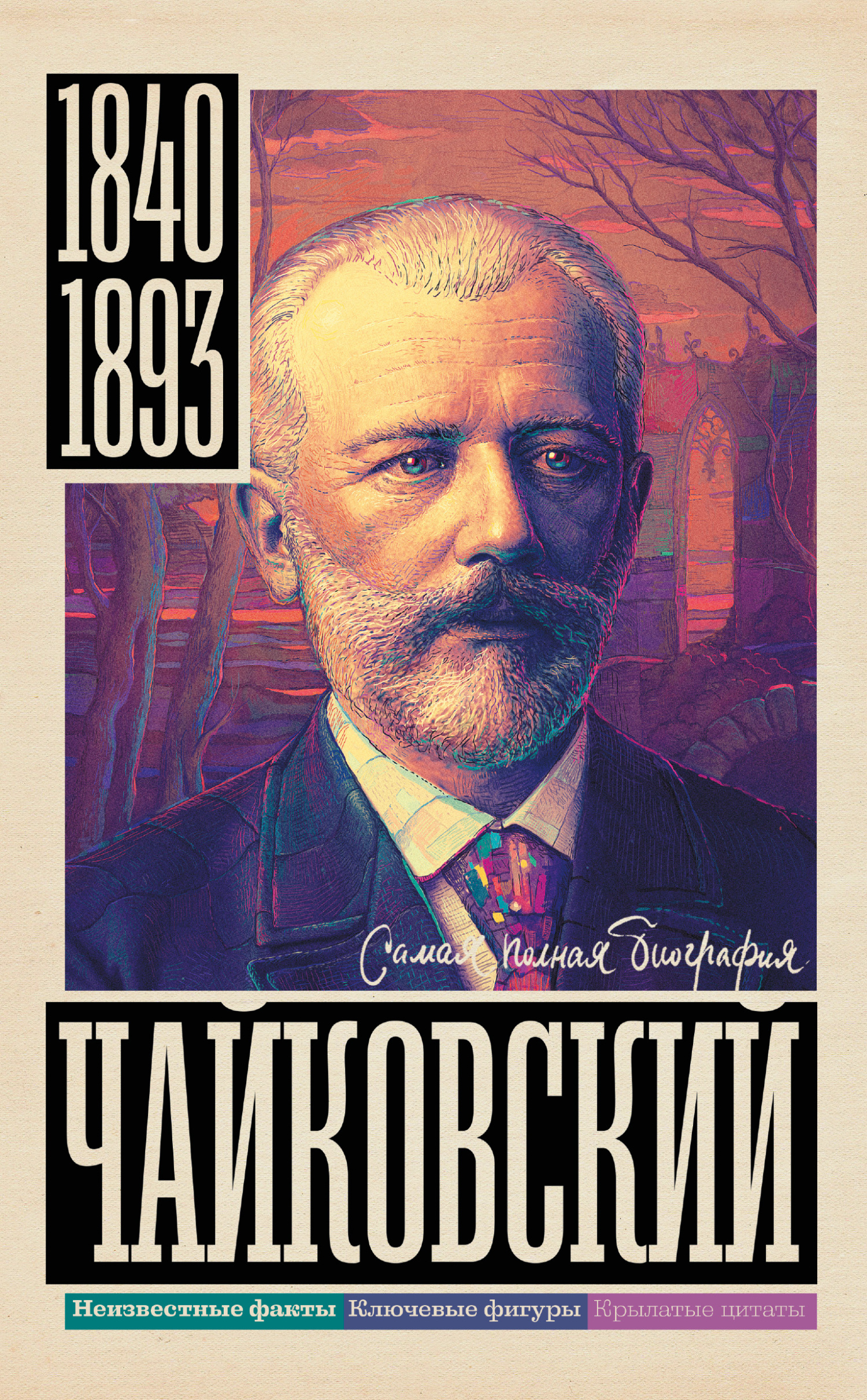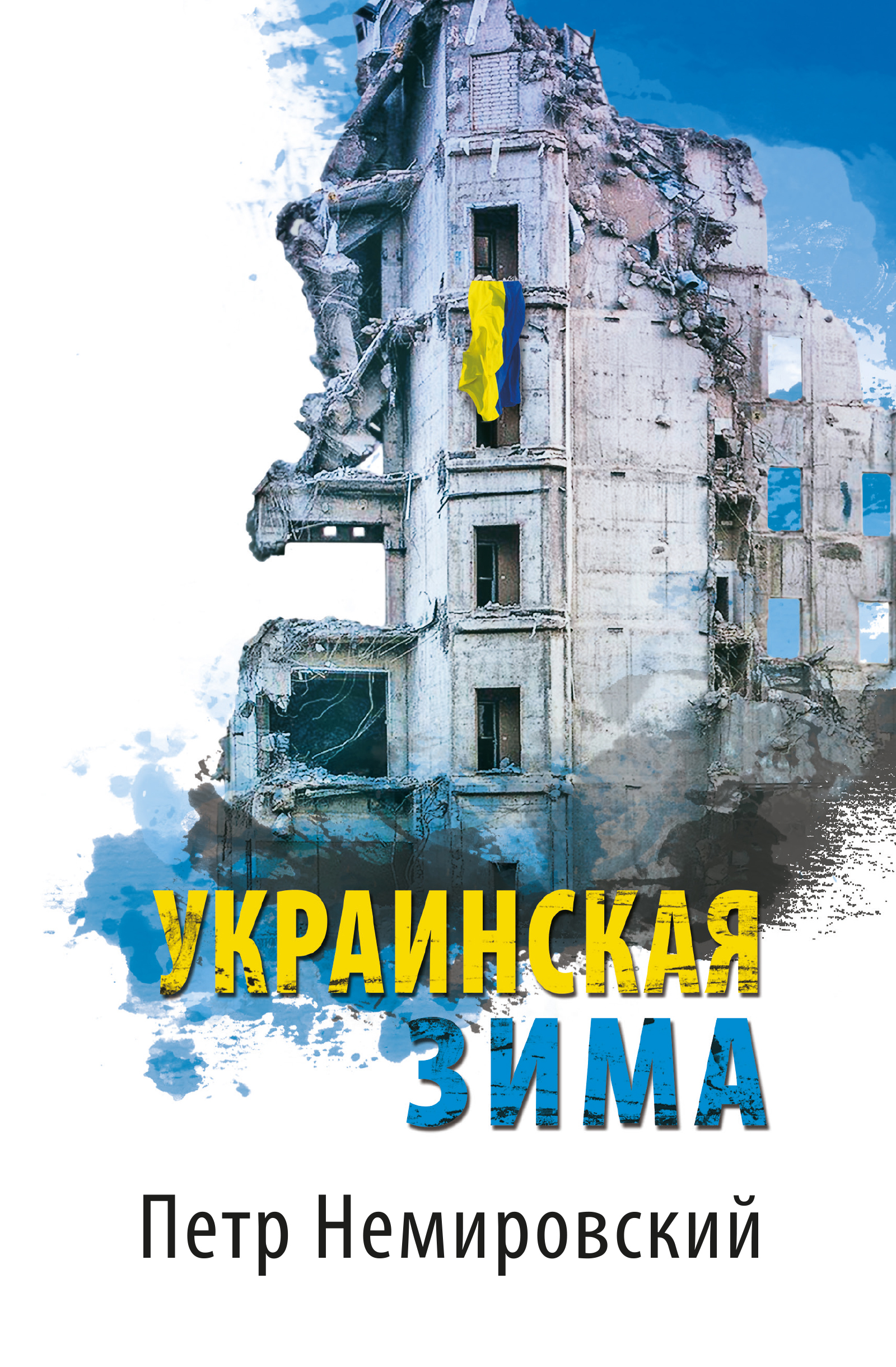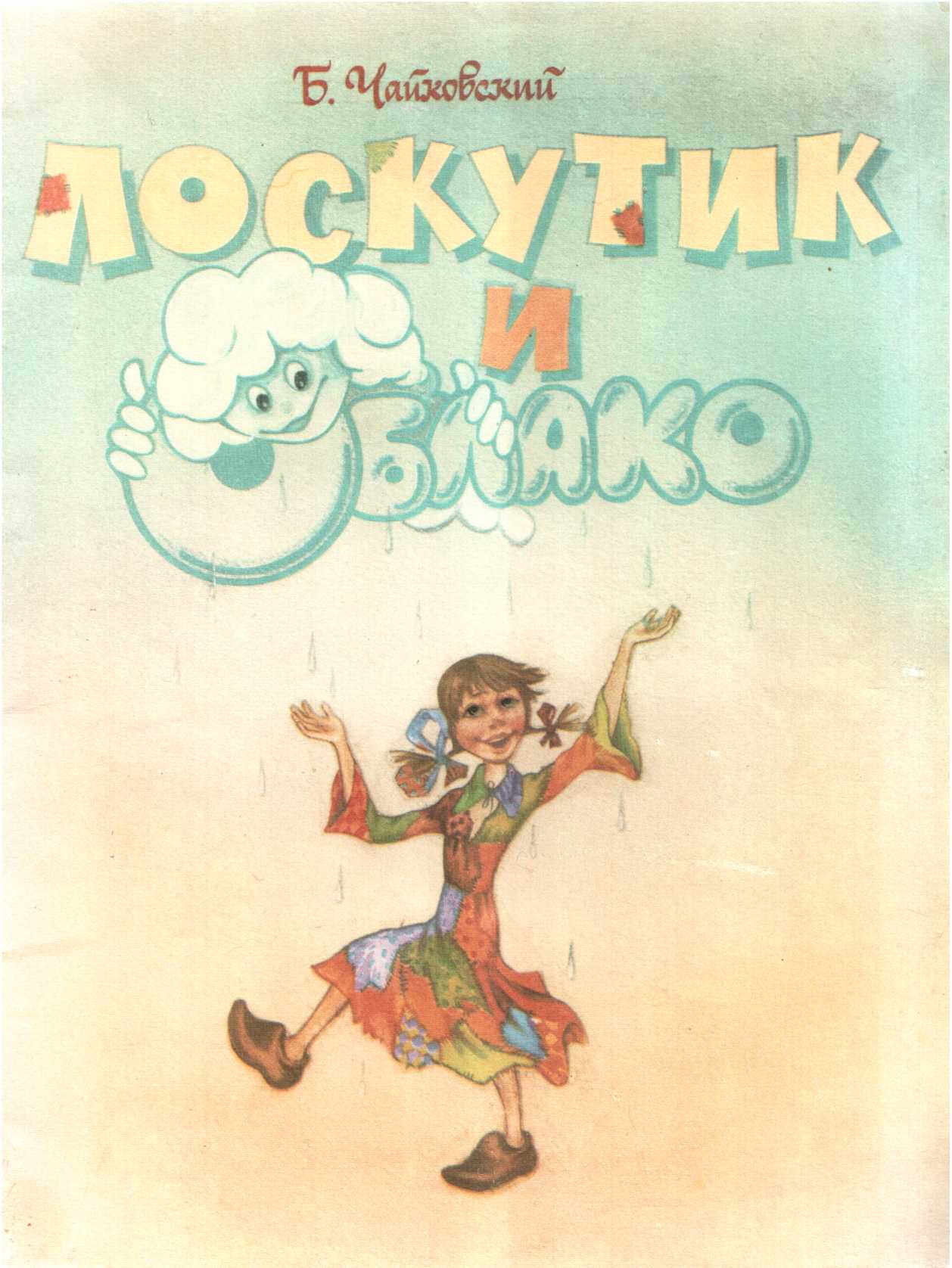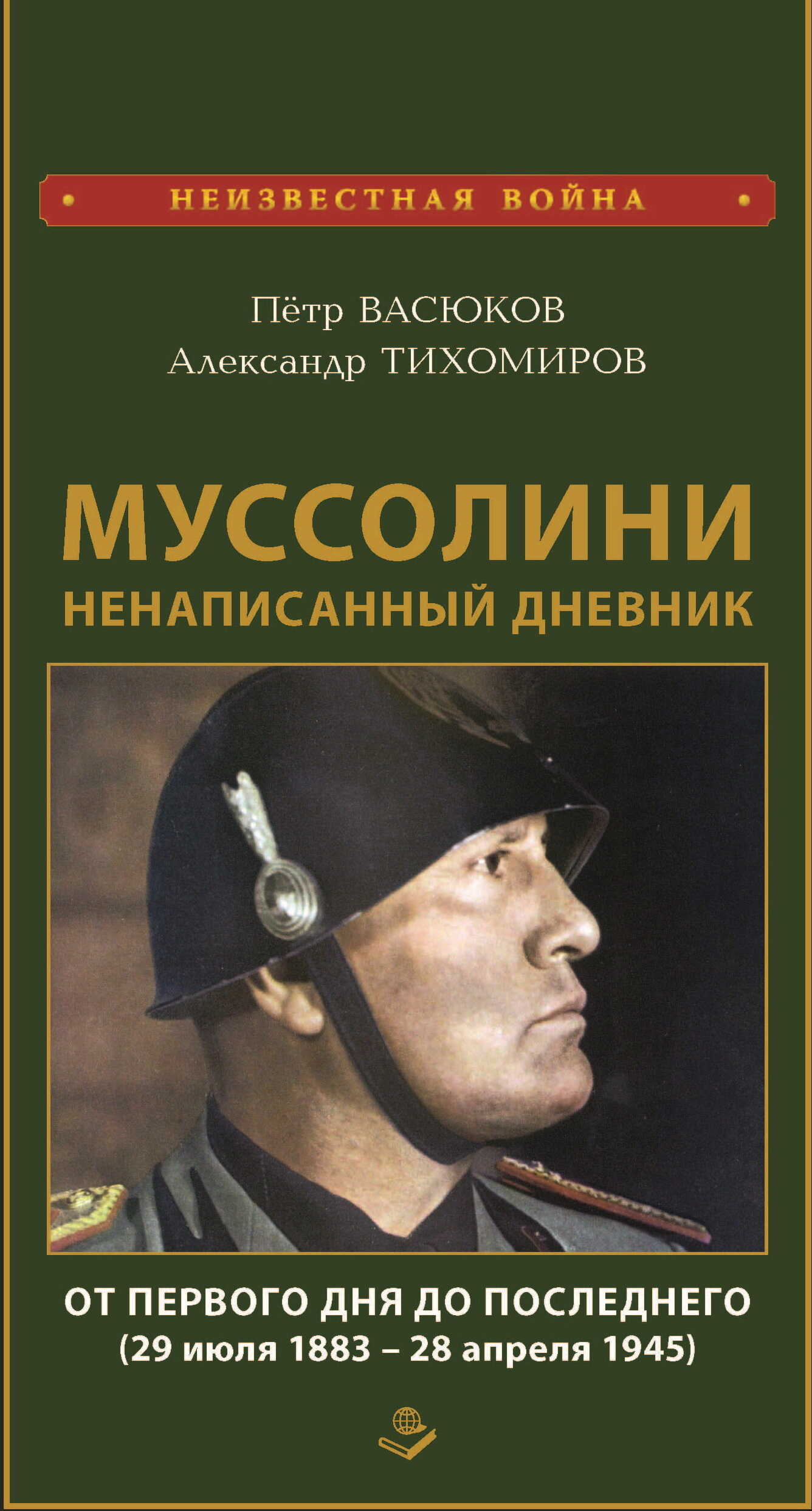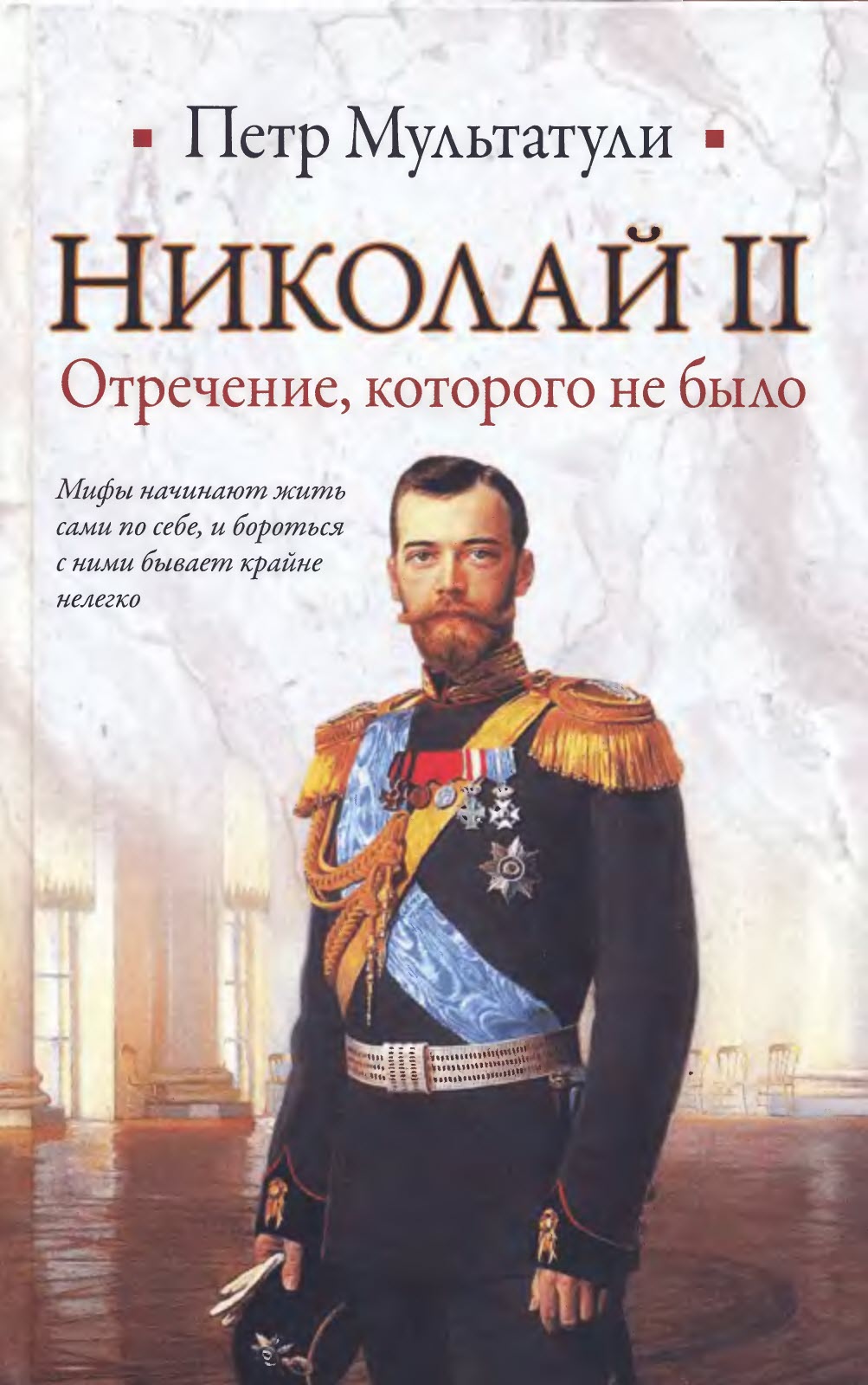композиций Чайковского и хороший чтец, нот. Впоследствии, на сцене, впечатление от оперы вышло несколько иное, нежели полученное при первоначальном знакомстве. Сцена Германа с Лизой во второй картине как-то не выходит, не имеет на сцене той силы и прелести, какие находишь, разбирая оперу за фортепиано. Застольная песня Германа тоже обыкновенно не удается, она кажется очень тяжело написанной, а интермедия пастушков и пастушек кажется со сценой милее и в музыке. Основные части оперы: сцены в спальне графини и в казарме у Германа остаются и на сцене столь же сильными, как и при чтении.
Летом 1890 года я прогостил во Фроловском почти два месяца кряду. Место это уже утратило тогда для Петра Ильича свою первоначальную прелесть, потому что владелица продала лес на сруб и его вырубили почти весь. Но все-таки Фроловское было еще мило его обитателю своей уединенной тишиной; он даже подумывал о покупке его, но имение было слишком велико, и необходимо пришлось бы возиться с полевым хозяйством, что было немыслимо для Петра Ильича, так что мечты о покупке пришлось оставить. В первой половине лета вместе со мною во Фроловском гостили Μ. И. Чайковский и Г. А. Ларош. Сходясь вечером вчетвером, мы, кроме обычных занятий музыкой, чтением и беседами, иногда играли в карты, в винт. Петр Ильич играл охотно три роббера, но потом уставал, и карты мы бросали. Летом пошли в лесу и парке в большом количестве грибы; Петр Ильич занимался собиранием их, вместо обычной прогулки, даже с некоторой страстностью и торжествовал, набирая грибов почти всегда более меня, довольно опытного в этом занятии; грибы за столом были у нас в разных видах ежедневно и, к удивлению нашему, не надоедали нам. Однажды утром, перед чаем, мы вышли с Петром Ильичом на террасу дома и любовались превосходной погодой: вдруг Петр Ильич с громким криком упал на землю, я испугался и не знал, что с ним делается; оказалось, что он просто увидел около террасы несколько белых грибов, закричал от страха, как бы я не захватил их прежде него, и повалился на землю с единственной целью перегородить мне дорогу своим телом, самому ползком скорее добраться до кустов и взять оттуда грибы; мы немало потом смеялись этому охотничьему задору. Хорошо знакомый с лесом, Петр Ильич знал грибные места, но никому их не показывал, даже опасался, что за ним будут следить, и нарочно ходил разными обходами.
В середине лета Модест Ильич и Г. А. Ларош уехали в Петербург, и мы остались вдвоем. Покончив с «Пиковой дамой» и корректурами ее клавираусцуга, Петр Ильич принялся за сочинение смычкового секстета, во исполнение обещания, данного Петербургскому обществу камерной музыки. Вначале работа шла трудно, потому что в техническом отношении она была совершенной новостью для композитора, хотя и написавшего уже перед тем три смычковых квартета и фортепианное трио. В квартете он имел против двух скрипок один альт и одну виолончель, а в секстете при том же числе скрипок он имел их по два, что давало возможность сделать полнее и гуще средние и нижние регистры, но в то же время нарушало равновесие между верхними и нижними голосами; быть может, октет, то есть просто удвоение квартета, было бы легче писать, потому что там соотношение между верхними и нижними голосами вполне нормально, то есть вполне тождественно с соотношением в квартете.
Я был занят тогда довольно большим переводом и занимался в комнате верхнего этажа, выходившей в парк, а Петр Ильич писал внизу; изредка до меня в дообеденное время долетали отрывочные, едва взятые на фортепиано аккорды: это значило, что композитор проверяет иногда сочетания, получившиеся в результате контрапунктических комбинаций. Секстет поначалу обещал быть очень хорошим сочинением. Хотя первая тема отзывалась чем-то вроде Рейсигера, но вторая тема и все развитие первой части были чрезвычайно интересны. Когда мы сходились за обедом или ужином в начале сочинения секстета, Петр Ильич жаловался, что ему очень трудно совладать с этой задачей; несколько дней спустя он сообщил, что дело идет лучше, а потом, полушутя, говорил, что иначе как для секстета трудно и писать, – так что задача писания для такого сочетания инструментов казалась вполне разрешенной.
Оказалось, однако, что и самый опытный музыкант может ошибаться относительно действительного эффекта звучности сравнительно с тем, что он видит на бумаге. Первая часть секстета, со второй темой в характере широкой итальянской кантилены, не представляла особых затруднений, а по складу едва ли не напоминала скорее симфоническое, нежели камерное сочинение. В дальнейших частях композитор намеревался строже держаться камерного стиля и прибег к сложным контрапунктическим комбинациям, дающим каждому из инструментов полную самостоятельность и равноправность с остальными. На бумаге и за фортепиано комбинациями этими приходилось только любоваться, так все было интересно, стройно и красиво. Одному играть секстет на фортепиано почти невозможно не только à livre ouvert [с листа] с партитуры, но даже едва ли можно сделать и на бумаге достаточно удовлетворительное переложение. Мы стали пробовать играть в четыре руки, и дело оказалось до известной степени возможным, хотя кое-как мы проиграли две шестиголосные фуги, и обоим они очень нравились. Особенно интересной казалась фуга, в которой инструменты по два вступали в унисон с темой, потом сейчас же делились на две самостоятельные партии, и простая тема превращалась таким образом в двойную; фуга эта казалась нам чрезвычайно удачною.
Наконец секстет был окончен, и автор остался им совершенно доволен, однако из осторожности не отдал его немедленно печатать, как с ним иногда бывало прежде, а решился прослушать его ранее в исполнении инструментами, для которых он был написан. Это сделать было тем удобнее, что Петру Ильичу все равно приходилось осенью ехать в Петербург по случаю постановки на сцену «Пиковой дамы», а там устроить исполнение секстета было легко. Вполне законченная партитура была отправлена в Петербург на имя председателя общества камерной музыки, ныне уже умершего Е. К. Альбрехта, с просьбой отдать расписать партии и приготовить их к приезду автора в Петербург. Е. К. Альбрехт пришел от сочинения в полный восторг и писал своему покойному брату в Москву, что между произведениями этого рода секстет должен занять первое место. Потом о секстете замолчали; в печати он не появлялся, и об исполнении в Петербурге ничего не было слышно. Приехав в Петербург в первых числах декабря к постановке на сцену «Пиковой дамы», я спросил Чайковского о судьбе его последнего сочинения и, к изумлению своему, услышал, что оно никуда не годится и требует