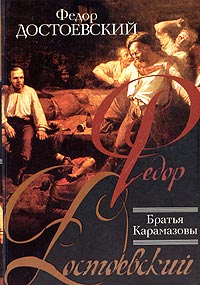заложат или еще чего отчебучат[28].
Особый случай составляет Первая палата, сюда поступают вновь прибывшие, которых через неделю переводят в палаты обычные. А еще здесь доживают свои дни в забвении беспамятные, обездвиженные старики.
Также в Первую могут вернуть за неповиновение персоналу или еще какую провинность.
За обитателями Первой палаты следить положено круглосуточно, и днем, и ночью, потому ее и прозвали «надзорная».
У входа в палату покоится тяжелое, монументальное, обшитое дерматином советское кресло – осколок прошлых времен. Впрочем, об этом уже говорили. Таких осколков в больнице осталось великое множество: книжный шкаф, эмалированные миски и алюминиевые баки в столовой, решетки на окнах и прочее.
В кресле и должен сидеть, дежурить постоянно кто-нибудь из медсестер-братьев: таков порядок. Днем это так и бывает, но персоналу ведь тоже поспать хочется, так почему бы не переложить свою обязанность на кого-нибудь другого? Ночную вахту несут принудчики или кто-нибудь понадежнее из числа обычных пациентов, наркоманы например. «Принудчики» – это лица, находящиеся здесь на принудительном лечении, как правило, люди с судимостью.
Дежурящие по ночам принудчики и наркоманы (эти две категории как-то быстро находят друг друга) получают льготы – поблажки от персонала, помимо улучшенного пайка в столовой, возможность курить в любое время, чаще других пользоваться городским телефоном – звонить домой, иметь при себе авторучку и зажигалку, на что администрация смотрит сквозь пальцы. Для остальных, непривилегированных, перекур начинается лишь в строго определенное время – без пятнадцати минут до конца каждого часа, а иметь зажигалку и авторучку строжайше запрещено.
Еще одно дело персонала, и уж эту обязанность нельзя передоверить никому, – раздача лекарств. Ну, тут все понятно, сказать об этом особо нечего.
Да, вот еще, забыл сообщить, в обязанности персонала входит также мыть по утрам пересравшихся за ночь стариков-маразматиков из Первой палаты. Но для такой работы набирают добровольцев из числа пациентов, получающих за это подачки: порции еды получше, скверные, дешевые сигареты, папиросы «Беломор» и чай. Персонал не снизойдет и до уборки туалета, коридора, столовой, ванной комнаты и подсобных помещений, где хранится старая одежда, обувь, грязное белье и банки для анализов. И это также обязанность добровольцев. А вот свои палаты мы моем сами, каждый по очереди – утром и вечером, совершенно бескорыстно.
Все эти многообразные и тяжко-трудные, муторные дела должны быть вознаграждены, разумеется. Оплата – персоналу, а пациенты и так свою награду получили[29].
Оплата с повышенной надбавкой за вредность. Да, работа действительно вредная: торчать бóльшую часть суток в нашем унылом заведении, в окружении бывших людей, сломанных человечков. Продукты, напитки вредные приходится принимать, персонал бухает прямо на работе – не только своим, но и медицинским спиртом из казенных запасов. Закусывают, случается, глёклой столовской жрачкой. Так что вредность заслуженная.
Справедливости ради стоит сказать, что даже такая работа-синекура может оказаться опасной. Нет, не только риском развития алкоголизма, хотя Герр Майор и был, в конце концов, уволен за пьянство на рабочем месте. Был случай, какой-то псих откусил сестре-хозяйке из нашего отделения фалангу пальца. Она и сейчас в строю – крепко держит в искалеченных руках осколки больничных судеб.
На одном из других отделений, номер не помню, произошел и вовсе дикий случай: одному из больных соседи по палате выкололи глаза пальцами за то, что воровал у своих же. Без глаз теперь ползает. Как ни удивительно, даже сломанные человечки, этот маргинальный сброд, социальный мусор, способны иногда на Поступок. Правда, качество этих поступков…
Такова больничная Дхарма.
Гнилая иллюзия
Только что прошла гроза, и озоновый слой вливается в окна мощным потоком. Совсем недавно, минут пять-десять назад, все небо было обложено, как несвежим одеялом, сероватыми тучами, но после весенний грозовой вихрь сдул никчемные облака. Словно тряпкой протертое небо мерцает чистой голубизной, и прямые лучи солнца могли бы «позлатить верхушки сосен», если б здесь были сосны.
В палате и во всей больнице тишина. Угомонились больные – сборище недочеловеков и деградантов, белая рвань, отрыжка социума – после раздачи лекарств и вожделенного перекура. Не слышно ни досужих пересудов ни о чем, с неизбежными матюгами, ни раздраженно-страдальческих окриков персонала, ни унылого смеха. Не начал еще свои ежедневные камлания с распеванием советских песен и цитированием Шекспира Миша Мышкин, не успели пока подраться, как делают они всегда после дележа окурков, два местных наркомана – бесцветные ханурики с пробитыми черепами, и Антон, успокоенный лошадиной дозой транквилизатора, перестал биться головой в дверь туалета и впал в сомнамбулическое полузабытье.
Итак, тишина, на небе ни облачка, и весенний зефир влетает в окошко, играя легкой полуулыбкой на незримых устах.
Тишина, покой, отрешенность, и Адонис лежит в утробе больничной койки, в скорлупе больничной пижамы, в пеленах болезненного сознания, в неизъяснимом блаженстве – даже без всяких транквилизаторов, он не принимал их сегодня, вчера тоже, и даже заснул своей смертью вечером.
Ласковый сквознячок струится, обдувает воздух вокруг лобной, височной, теменной и всех прочих костей черепа, в котором недавно еще кипели червями беспорядочные, бесполезные мысли: хаос, огонь, война, напалм, смрад, разложение, женщины, девки, погибель, Кали-юга[30]. Но теперь все хорошо, все спокойно, могильные черви угомонились, и все как у людей, спи спокойно, мой ангелочек, ты лучше всех, баю-бай, баюкает Дурга[31].
Спи-усни, становись нормальным, с безбрежной, никогда не просыпающейся совестью.
Но Адонис не спит, он наслаждается тишиной, покоем, свежим дуновением весны. Мысли, когда они появляются, звонки и ненавязчивы, словно ноктюрны Дебюсси.
Он смотрит в окно – там, за ним, в непонятом, невыразимом словами объеме Ойкумены, шевелится дерево, трепещут его зеленеющие, зелененькие листочки, и кажется, будто сам дух дерева, пробудившийся от зимней спячки гений весны сыплет злато-серебро тебе в уши.
И ничто теперь, нигде, никогда не тревожило, не внушало опасения, не предвещает беды. Зло повержено, добро торжествует. И жизнь налаживается, так что можно ни о чем не тревожиться.
Но это иллюзия, бро. И пусть сейчас все заебись, прошлую карму отменить нельзя. И нельзя заглушить укоры безбрежной, вдруг пробудившейся совести.
Счастье – иллюзорное представление, еще более нереальное, чем сама жизнь. Это видимость, бро, иллюзия – майя[32].
Но пока ты об этом не знаешь или не хочешь знать – наслаждайся покоем неведения.
Этот покой, счастье, нетронутость бытия – лишь видимость.
Гнилая иллюзия.
Не всё так плохо
Я тут бойцов наших недочеловеками называл, социальным мусором и еще как-то. Не хочу взять свои слова обратно – чувство справедливости не позволяет, –