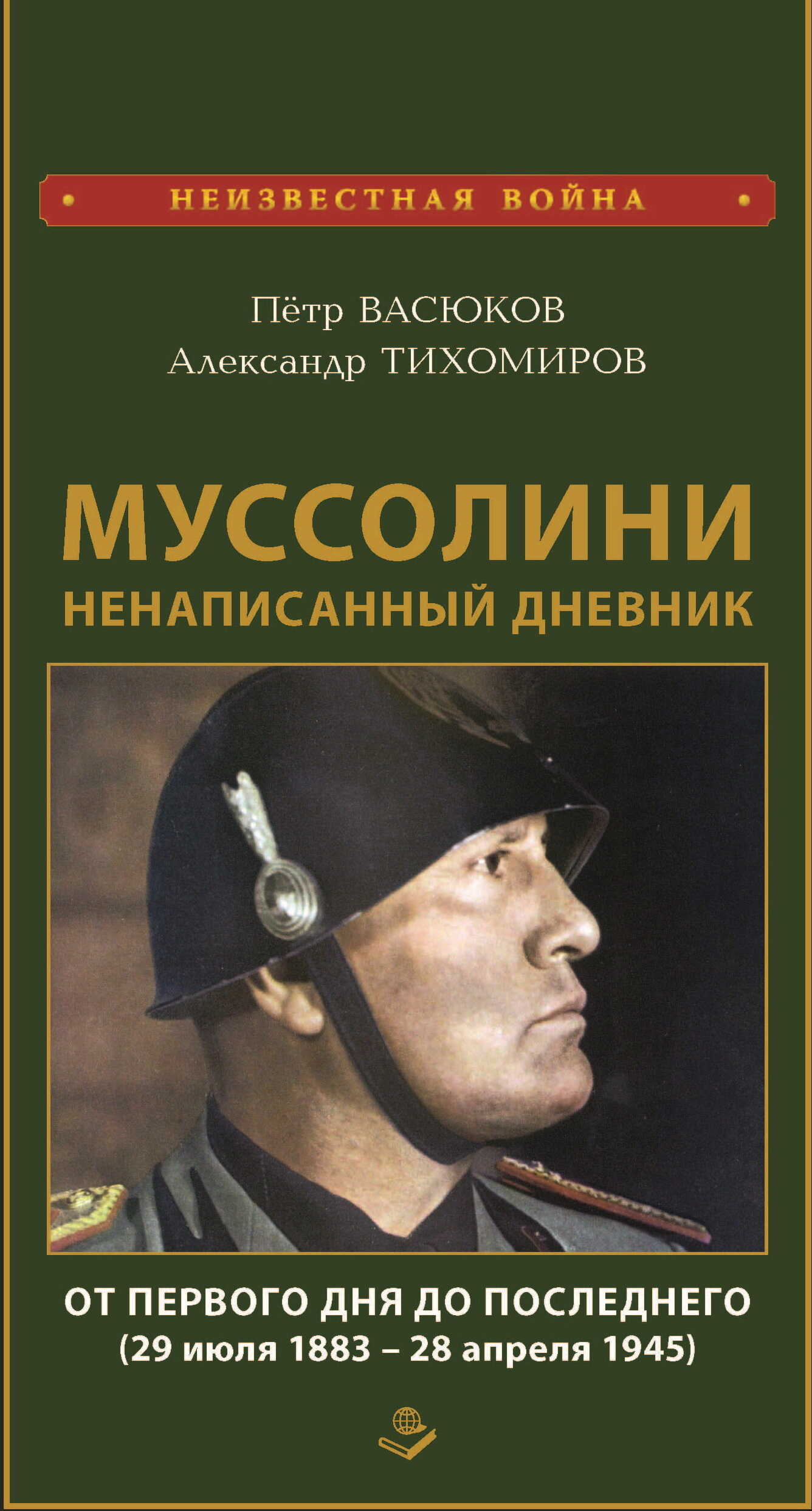однажды указал мне, что непременно бы ее уничтожил, если бы она не была уже напечатана. О несчастной симфонии совсем забыли с того времени и едва ли где-нибудь исполняли, пока в прошлом году за нее не взялся теперешний капельмейстер лейпцигского Гевандгауза и филармонических концертов в Берлине, г. Артур Никит, под управлением которого та же симфония имела, блестящий успех в Лондоне, Лейпциге, Берлине, Москве и теперь займет, можно надеяться, подобающее ей место в репертуаре симфонических концертов.
Позднее годом или двумя была написана баллада для оркестра «Воевода», но автор уже не отдал ее печатать раньше исполнения, которое и состоялось под его управлением в Москве. Я был на репетиции концерта и видел, что композитор относится к своему детищу с полным недоверием, что заметно было по вялой безразличности оттенков и полному отсутствию стремления сделать исполнение хорошим. В концерте баллада прошла кое-как, не сделала впечатления на слушателей и в ту же ночь партитура ее была уничтожена автором. Таким образом довольно значительное по объему сочинение погибло, хотя, быть может, совсем не заслуживало этой участи. Впрочем, если не ошибаюсь, одному из молодых друзей Чайковского удалось спасти оркестровые партии баллады, и в таком случае партитуру можно, конечно, восстановить по ним. Сам композитор или забыл об оркестровых партиях, или же, когда прошел первый пыл раздражения, не стал доводить до конца дело уничтожения своего сочинения, над которым он работал довольно много. Вероятно, наследники Чайковского могут, если пожелают, восстановить едва не уничтоженное сочинение и вряд ли оскорбят этим память покойного.
Гамбургское исполнение пятой симфонии связано было со встречей между Брамсом и Чайковским, о которой последний нередко вспоминал. Познакомились они еще года за два перед тем в Лейпциге, а к исполнению симфонии e-moll Брамс нарочно приехал в Гамбург. Он пригласил Чайковского завтракать, отлично угостил его и в дружеской застольной беседе откровенно признался, что симфония ему совсем не нравится. По словам Чайковского, это было сказано так искренно и просто, что он не только не был оскорблен строгостью критики, но даже почувствовал еще большую симпатию к прямодушному художнику, которого он очень уважал и ранее. В свою очередь и Чайковский высказался с полной откровенностью о своем взгляде на композиторскую деятельность своего знаменитого собеседника, и затем они расстались большими друзьями, но встретиться им больше уже не пришлось.
X
Чайковский особенно крепким на вид не казался, но в сущности был здоров и вынослив; привыкнувши в деревне гулять во всякую погоду, он был к простуде почти не чувствителен, только очень боялся ветреной погоды, не столько вредной, сколько неприятной для него. Единственной его хворью был род гастрической лихорадки, от времени до времени появлявшейся у него и сопровождавшейся иногда довольно сильным жаром; но все это очень скоро проходило само собою, уступая лечению домашними средствами; к помощи медиков Петр Ильич прибегать не любил. Как бы то ни было, но с приближением к 50‐летнему возрасту стали появляться признаки старости и утомления, хотя старческих недугов и недомоганий не было никогда вплоть до самой смерти. Внешним образом Петр Ильич сильно постарел в последние годы жизни: редкие волосы на голове совершенно поседели, лицо покрылось морщинами, стали выпадать зубы, что ему было особенно неприятно, потому что иногда мешало говорить вполне ясно; еще более чувствительно было постепенное ослабление зрения, сделавшее для него чтение по вечерам при огне затруднительным и таким образом лишавшее главного развлечения в затворнической жизни, которую он вел в деревне, так что одиночество становилось ему иногда тягостным, особенно в длинные зимние вечера.
Утомление начало сказываться в том, что задуманное новое сочинение уже не поглощало его так всецело, как это было прежде, стали все чаще являться моменты, когда мысль требовала отдыха и развлечения в каком-нибудь ничтожном занятии, не требующем умственного напряжения, Петр Ильич говорил иногда, что его в значительной степени удовлетворила бы возможность иметь вечером партию в винт – роббера на три – больше играть с удовольствием он почти не мог, – но в деревне этого устроить было невозможно, не заводя знакомства в Клину, чего он отнюдь не хотел делать ради сохранения полной свободы. Сколько мне кажется, вечеров тоскливого одиночества было все-таки у Чайковского немного, чаще же он по-прежнему мог жить в сочинении, которое занимало его в данный момент. Впрочем, кроме собственных сочинений, его занимали и чужие; если какая-нибудь новость ему нравилась, то он подолгу и с любовью изучал ее. Так, например, он очень долго не разлучался с партитурой «Испанского каприччио» Н. А. Римского-Корсакова, в котором его пленяли новизна и блеск оркестровых эффектов; помнится, что, приезжая в Москву на несколько дней, он привозил и партитуру с собою, хотя, вероятно, знал уже наизусть все, но ему приятно было, не утруждая памяти, открыть ноты и прочитать еще раз уже хорошо ему известное [825]. Таким же образом он увлекся оперой А. С. Аренского «Сон на Волге» но уже по клавираусцугу, потому что партитуры у него не было. Петр Ильич говорил мне, что сначала он отнесся к этому сочинению довольно равнодушно, но бессознательное чувство чего-то привлекательного заставило его вернуться к нему, и затем, чем более он изучал оперу, тем более она ему нравилась, а многие сцены он находил превосходными. Последним из подобных увлечений была оркестровая сюита Г. Э. Конюса «Из детской жизни», которую Петр Ильич ставил очень высоко.
Читать ноты по вечерам легче, нежели книги, потому что нотный шрифт удобнее схватывается глазом, – и потому подобное чтение могло ему наполнять иногда свободное время. Нужно прибавить еще раскладывание пасьянса, которым покойный друг мой иногда занимался, но не более нескольких минут кряду, достаточных для двух пасьянсов, бывших ему известными – другим он не выучился, – но пасьянсовые карты составляли необходимую принадлежность его письменного стола; он даже чуть ли не брал их с собой в свои путешествия.
Года за четыре до смерти Петр Ильич сделал опыт, совершенно неудавшийся, поселиться на зиму в Москве. В то время он вошел в состав дирекции Музыкального общества в Москве и, относясь к этому, как и ко всяким принимаемым на себя обязанностям, вполне серьезно и добросовестно, он считал необходимым быть в Москве постоянно во время концертного сезона. В это же время ему было предложено Петербургской консерваторией 5 000 рублей в год, с тем чтобы он посвящал два часа в неделю на просмотр работ учащихся в классе свободного сочинения и, разумеется, переехал бы для этого в