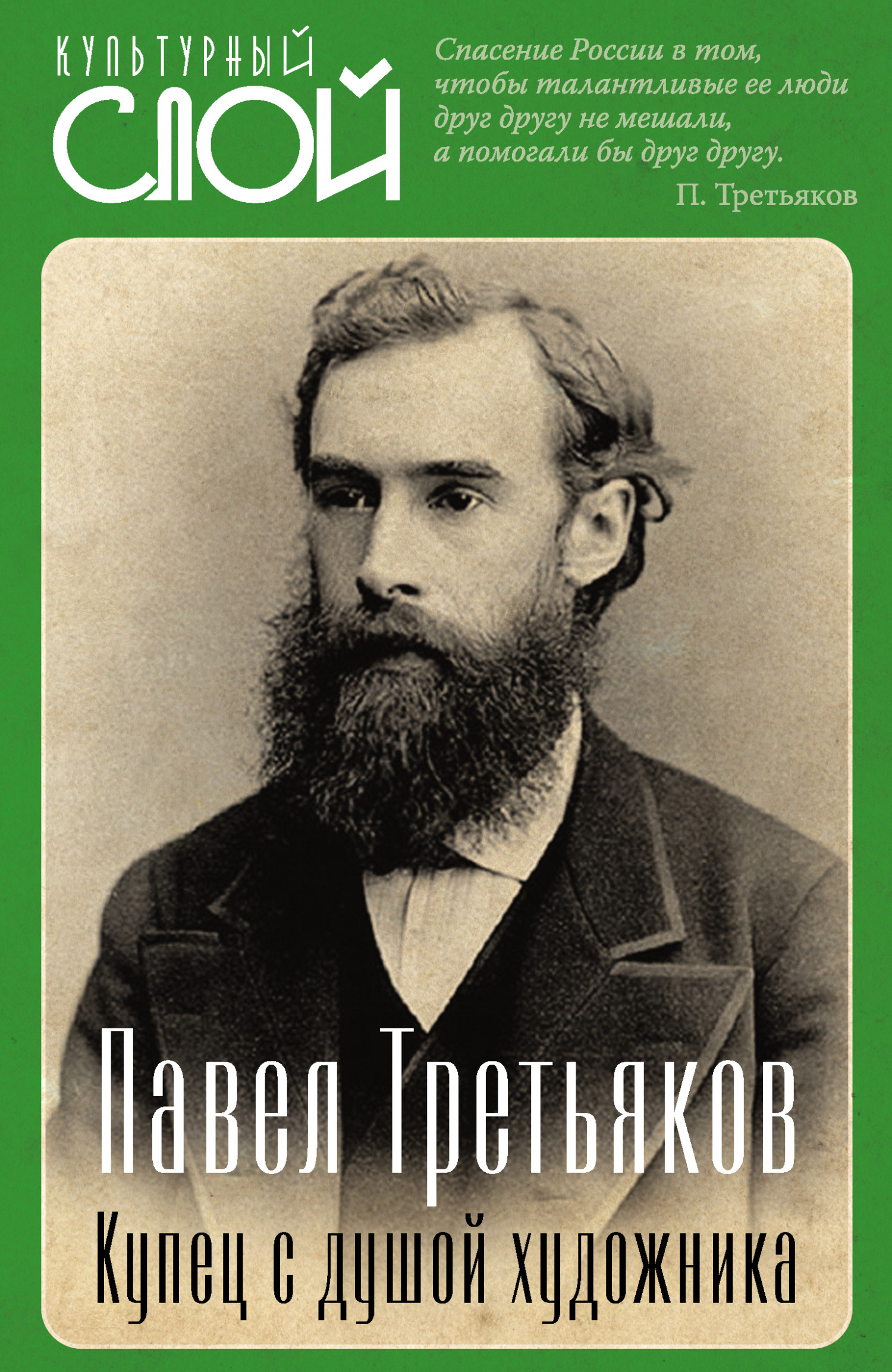с Risorgimento (от risorgere, «вновь возникать»), как называло себя движение за объединение Италии, так что у них обращение к великому прошлому политизировалось. Русские термин Ренессанс взяли уже готовым из европейской исторической литературы в самом конце XIX века (у Грановского он отсутствует) и тут же стали использовать как французское написание, так и русский перевод, Возрождение. Муратов в «Образах Италии» употребляет оба варианта на равных правах и практически с равной частотой.
В начале 1880-х годов, когда Энгельс писал свое эссе, французский термин был моднейшим нововведением в словарный запас как историков, так и историков искусства, которых, в общем-то, тогда было раз-два и обчелся. Что оно обозначало, было понятно лишь приблизительно, так что первые исследования Ренессанса занялись определением его границ. Изначально французские историки называли Ренессансом только XVI век, так как оттачивали этот термин на своем национальном материале, но англичане и немцы, обратившись к Италии, тут же решительно его значение расширили. Характерно, что часто встречающийся на русском перевод названия книги Буркхардта как «Культура Италии в эпоху Возрождения» предполагает сразу три отступления от оригинала: во-первых, Буркхардт в заглавии использует не немецкое слово, а французское, во-вторых, в его заглавии нет слова «эпоха», а в-третьих, слово «культура» относится не к Италии, а к Ренессансу. Буркхардт тем самым снимает вопрос о периодизации, так как «культура» уж даже и не термин, а полиморфное понятие, приобретающее бесконечное множество форм и смыслов. Эпоха же связана с периодизацией и определяется историческими фактами.
* * *
История, великое изобретение разума, есть одна из форм непрекращающейся борьбы человека со временем, которое бесформенно и безжалостно в своем однообразном беге. Событие, случившись, тут же исчезает, переставая быть со-бытие́м, ибо того, что было, уж нет, оно исчезло, кануло в небытие. Поток времени вымывает прошлое из мира реальной объективности не просто каждый день и час, но каждую секунду. Человек, чтобы как-то противостоять всё уносящему бегу времени, разделил его на прошлое, настоящее и будущее, то есть на то, что было, есть и будет. Бег времени неумолим и непреодолим, он ежесекундно превращает бытие в небытие, но, выделив прошлое, человек нашел способ остановить время: то, чего нет, продолжает быть, ибо становится вечностью. Блаженный Аврелий Августин Иппонийский в «Исповеди» сказал: «Совершенно ясно теперь одно: ни будущего, ни прошлого нет, и неправильно говорить о существовании трех времен, прошедшего, настоящего и будущего. Правильнее было бы, пожалуй, говорить так: есть три времени – настоящее прошедшего, настоящее настоящего и настоящее будущего. Некие три времени эти существуют в нашей душе, и нигде в другом месте я их не вижу: настоящее прошедшего – это память; настоящее настоящего – его непосредственное созерцание; настоящее будущего – его ожидание».
По мере угасания не то чтобы веры, а уверенности в божественном происхождении человека и наличии в нем бессмертной души и замены ее понятием «психика», память становилась делом человеческим, слишком человеческим. Тем не менее свойства материи память не обрела, осталась в области духовного, но хотя теперь ею стала распоряжаться не душа, а свободный разум. Он отдал вечность, а вместе с ним и прошлое, во власть истории. Но как прошлое из вечности выковырнуть? Только с помощью знания, которое есть орудие памяти, невещественного психического начала, части сознания. Для того чтобы со-бытие́ не исчезло, в чистой духовности растворившись, его надо осознать и зафиксировать. Осознание и фиксация с помощью письменности превращает событие в факт, но факты должны быть к чему-то привязаны, иначе они растеряются, как блудные козы, поэтому человек много сил потратил на создание хронологии, являющейся локализацией фактов с помощью дат. Разнообразных летоисчислений было множество, но, несмотря на всякие продолжающиеся препирательства, к началу третьего тысячелетия установилась единая система утверждения фактов, основанная, вопреки всякому материализму, на происшествии, имеющем отношение к области духа и подтвержденном не опытом, а верой, на Рождестве Христовом. Нет ничего более условного, чем вся наша современная хронология; мы начинаем «нашу эру» с Рождества и, основываясь на этой фиктивной дате, пытаемся в этой эре как-то сориентироваться, деля ее на эпохи.
На разделении времени на «нашу эру» и «до нашей эры» зиждется вся нынешняя система истории. Может ли она быть объективной? Сомнительно. Объективность истории искусств – а искусство еще одна форма борьбы человека со временем – сомнительна даже в большей степени. Буркхардт в «Культуре Ренессанса в Италии» до искусства так и не дошел, да и когда он писал свою книгу, история искусств еще была на положении простой служанки Клио, музы Истории, хотя вскоре она стала претендовать на роль отдельной и независимой научной дисциплины, из Kunstgeschichte, Истории искусств, превратившись в Kunstwissenschaft, Искусствознание. Тогда-то и пошло-поехало. Нет отрезка времени, об искусстве которого было бы написано столько, сколько об искусстве Ренессанса. Сам термин то расширяли во времени и пространстве, начиная его отсчет с XII века и заканчивая XIX, распространяя на всю Европу, включая Россию, а то так даже перебрасывая в Азию. То, наоборот, сужали, сводя к одной Тоскане (причем исключая Сиену, как город, где торжествовал вкус к готике не только в Кватроченто, но и в начале Чинквеченто) и ограничивая 1420–1520 годами. Кто-то начинает Ренессанс с Данте и Джотто, кто-то – с Петрарки и Боккаччо, кто-то относит его начало к 1420-м годам, ко времени утверждения проекта купола Санта-Мария дель Фиоре, связывая с Донателло, Брунеллески, Мазаччо и с флорентийским гуманизмом, а кто-то – лишь со времени Лоренцо иль Маньифико. Прямо-таки миф о Прокрусте, только Прокруст был один, а жертв много, а Ренессанс один, прокрустов же у него – хоть пруд пруди. Сколь бы ни растягивали Ренессанс, стараясь дотянуть его начало чуть ли не до Каролингов, и сколько бы ни рубили его на мелкие ренессансы, нельзя отрицать: решающую роль в определении Ренессанса, что бы под ним ни подразумевалось, играют отношения с Античностью, то есть с римско-эллинской цивилизацией. Она же отнюдь не исчезла с падением Западной Римской империи. Во-первых, Византия, прямая ее наследница, продолжала не только существовать, но и процветать. Во-вторых, что еще важнее, варвары, физически победившие римлян, подчинились им духовно, приняв христианство. Вместе с христианством, несмотря на хаос, воцарившийся на западе Европы, сохранилась латынь, институт папства и престиж города Рима.
Великая книга Summa theologica Фомы Аквинского, как и великие готические соборы, ознаменовала европейский расцвет XIII века. Фома писал на латыни, и его текст изобилует ссылками на античных авторов как христианских, так и языческих, но странно бы было называть на этом основании Фому Аквинского