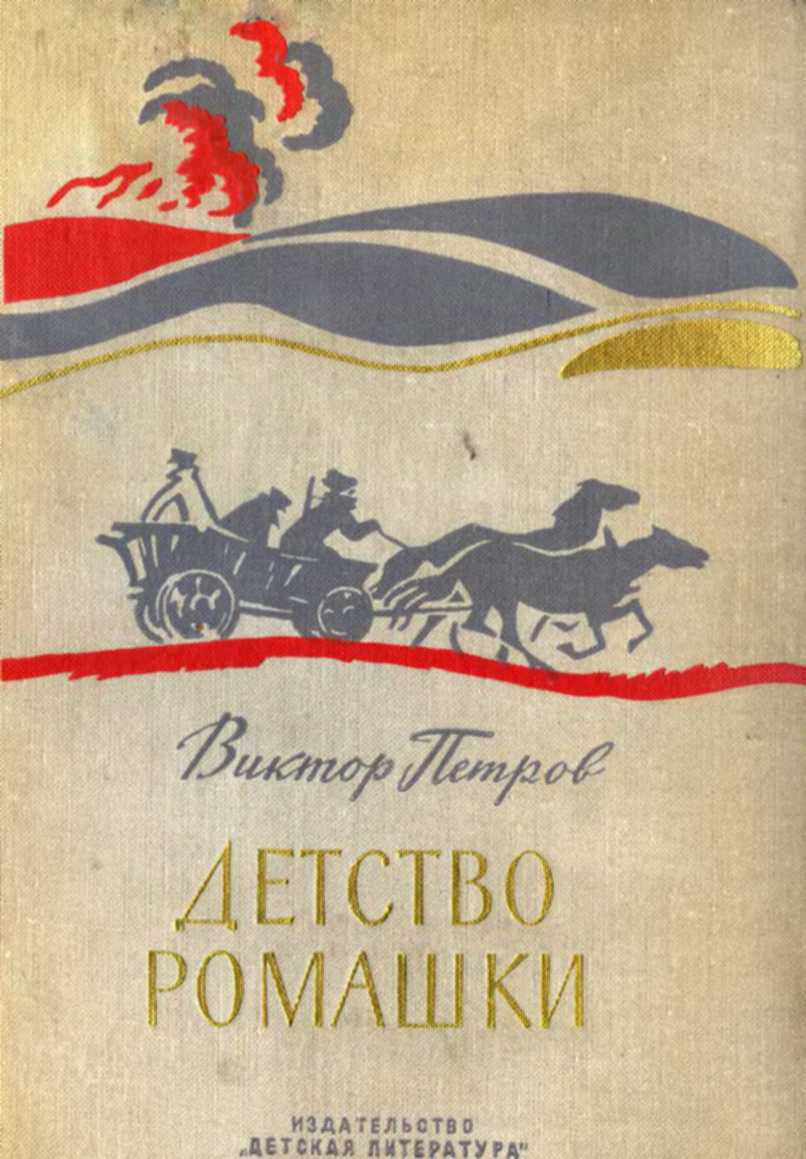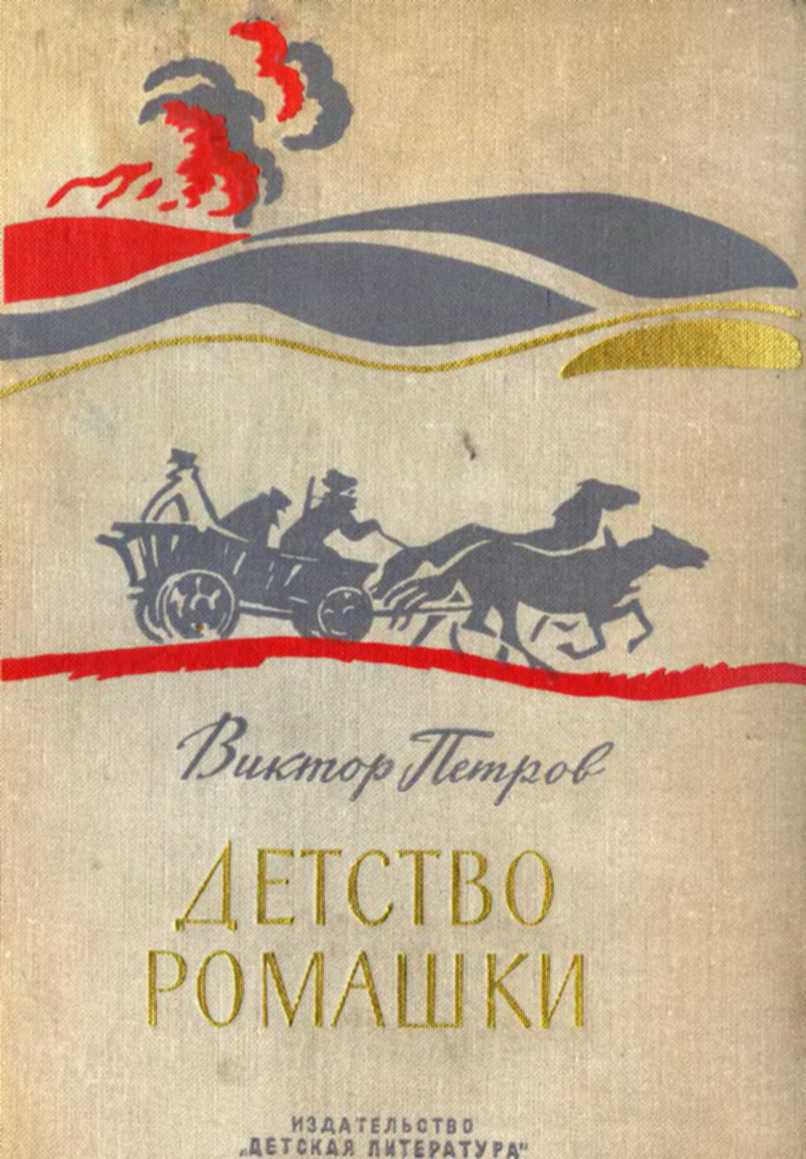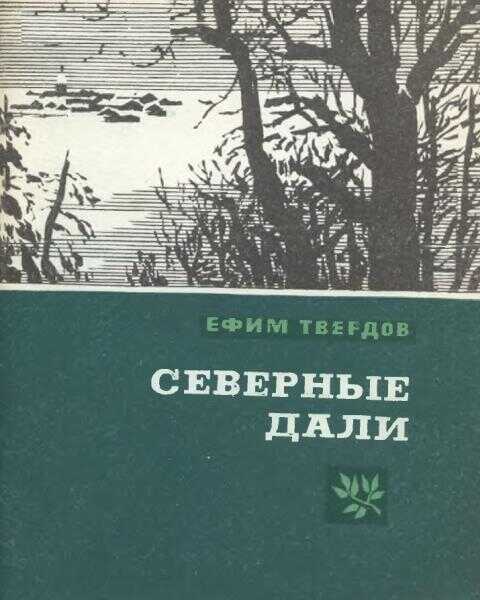сам живот подтягивает ремешком. Видно, забулькало у него от пересмеха. — И так все обозначилось, — кудахтает он. — От нее ни пуха ни пера нам не будет.
— А много ли пуха да пера ты на своем веку видывал?
— Да не то, чтобы то, и не очень, чтобы очень, — отвечает Самсон да на беляночку поглядывает, хочет сапожищем ее пнуть.
— Не трогай работягу, — говорю я Самсону и обращаюсь к Незнаю: — Ну, милая, шагай по лесочку да прижимай белочек к кусточку.
Как только я это промолвил, моя Незнаю на все четыре ножки прыгнула, хвостик в три калача согнула и пошла по лесу сосны да елки считать.
— Ну что ж, Киря. Пойдем поглядим, как дворняжка с делом будет обряжаться, — сказал Самсон, за кушак рукавицы ткнул, курки у тулочки взвел, на предохранители поставил, чтоб не заружиться, шапчонку глубже натянул и вперед подался.
Так идем и промежду собой в молчанку играем. Вдруг: «Тяв-ва-ва-тяв… тяв… тяв… тявк…»
И пошел ласковый голосок по лесочку вперегонки бегать.
— Что-то обозначилось, — говорю я Самсону, а сам наперед забегаю, на собачий лай. Я-то знаю, что Незнаю врать не научилась. Самсон старается меня опередить, крутой овраг берет и носом в лесину упирается, от его тугого носа с красной коковкой чуть ель не пошатнулась. Я тоже наперед хочу идти, кричу Самсону:
— Торопилась одна кобыла, да с возом все горшки перебила. Не суйся попереди хозяина, дело спортишь!
Самсон не осердился, свой шаг умерил и за мной пошлындал. Подошли мы к беляночке, а она, бедная, мается, зубами цокает да когтями о ствол лесины скребет, а голосок звенит и звенит. Обошел я ту лесину кругом, вижу не белка сидит, а из дупла куница головушку на божий свет показывает да мою Незнаю дразнит.
Прицел, спуск курка — и, этого-того, куница в руках у Самсона. Он гладит ту куночку, а сам расцвел, что весной. Потом продухт вынимает, по стопочке наливает и первую стопку Незнаю подает. Та десны оголяет, зубы показывает, урчит на Самсона, кричит ему: «Я непьющая».
— Молодчина, Незнаю! Клад, а не собака.
И в тот день мы досыта наохотились, так что Самсон кокову опустил да меня спросил:
— Не пора ли нам, Киря, к дому податься да там за чаи взяться, что-то тонкие кишки продухта запросили.
И я опять подозвал свою Незнаю, посадил ее в мешок и к своей избе понес.
С добычей всегда легко ступается, устали не ощущается.
КАЖДОМУ СВОЕ ДИТЕ ДОРОГО
Наша избенка, где я проживал с бабушкой и матушкой, стояла в задней порядовке деревни. Окна ее глядели на скотский прогон, а заднюха пятилась к лесным бугоркам, подле которых пробегала маленькая речушка с интересным названием Сдоба. Почто ее так в старину прозвали, мы не знали. Только вода в той речке страсть как скусна, чиста и холодна. Рыбы в ней не было, а раков полным-полно. Раков наши мужики не ели, а ловить ловили. Особо гонялись за синюжниками. На синюжников язи хорошо клевали.
Стояла сенокосная пора. Матушка со скотиной обряжалась рано. Еще заря только-только начинает загуливать, а матушка уже кричит:
— Хватит вам прохлаждаться, пора на пожню собираться! По росе коса хорошо берет!
Мы с бабушкой поднимались, сразу вставал и отец. Тогда он еще жил при нас. Завтракали парным молоком да душистым хлебом, а то и пироги запивали молоком и на пожни торопились. На покос уходили раньше деревенцев. Все хотелось нам досыта накоситься да травой на зиму обогатиться, сена насушить, стогов наставить да живности во двор прибавить. Но как мы в царево время ни бились, как ни суетились, а живностью не обзаводились.
Была тогда у нас чалая коровенка с тремя титьками, четвертую медведь откусил, да в хлеве блеяла ярушка с двумя ягнятами, а матушка, так та вдосталь курами себя обеспечила. Самая доходная статья в хозяйстве — куры. Но надо ж такому случиться. В это лето куры стали теряться. Вечером мать соберет их на седала всех до единой, ни одной на улице не оставит, а утром обязательно одной недосчитается. Затосковала матушка моя, а как потерялось пять кур, да самолучших, стала мать по соседским дворам ходить да чужие седала проверять: нет ли там своих кур? Но где их, своих-то, найдешь! Деревенские бабы матушку стали полоумной звать да со дворов почали гнать.
Тогда матушка в колдовство ударилась. Поймает черного петуха, в избу принесет, ему глаза повяжет тряпкой, покрутит, покрутит того петуха да на пол кверху ногами положит, а сама ходит вокруг него да приговаривает:
— Черт, с курочками поиграй да обратно их отдай.
После колдовства в ту ночь с насеста сразу две курицы потерялись. Матушка снова петуха в избу принесла да давай с ним по запечнику ходить. Петуха по закоулкам тычет, приговаривает:
— Вокруг печки я хожу, петушка в руках ношу, печку петькой не задеваю, для того не задеваю, чтобы курочки не исчезали да свой дом не теряли.
И опять же в ту ночь одна курочка исчезла, будто ее сам нечистый языком с насеста слизнул.
— И надо ж так получиться, — сердился мой батюшка. — Восемь несушек с насеста исчезли. А куда? Может быть, их кто стащил? А кто? Поймать бы мерзавца.
Мне стало жалко матушку. Она слезами обливается, к еде неохочлива стала да придирчива, не всякий продукт ела. Вот тогда-то я и решил поймать воришку. В воскресные дни мы не косили траву, а если день был ведренный, то только стоговали сено. Я решил в субботнюю ночь выйти в засаду. Просижу всю ночь, а вора выжду и из ружья солью или клюквой в тыльное место хлестну. Соль в то время у нас была крупная. Для солки куска хлеба мы ее в ступе толкли, а потом через сито просеивали. Зарядил я один патрон той солью, а другой, что картечиной был заряжен, на всякий случай в карман сунул. Мало ли что могло случиться. Черт не туды шел, вдруг да сам язвик[2] на подворье пожалует, а язвику хлесткий удар нужен. Его сало нелегко просверлить.
С вечера залег я в травку-муравку под мелкий березник у самой речки на маленький бугорок. Дом свой близко, тропа, что к реке ведет, тоже рядом. Если вор тропой пойдет — увижу, а если задами побежит, все равно достану. Ружье не кочерга, а все ж тульская сталь, еще не прохудилось.
Лежу в траве, на небо поглядываю, а