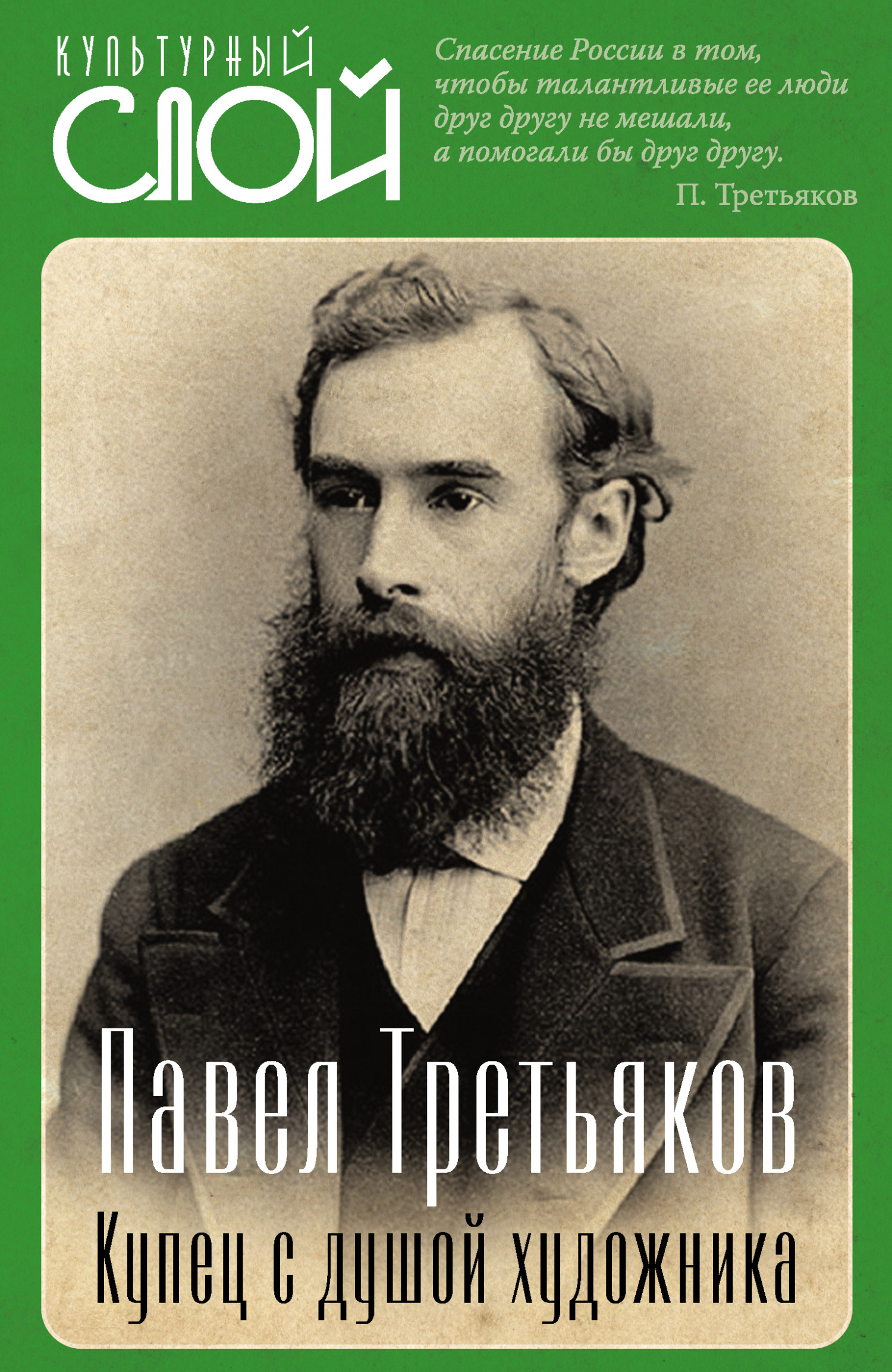к уничтожению наследия прошлого, которое есть «тяжесть багажа наших бабушек и дедов». Само собою, согласно Малевичу, в новой эпохе не было места ни ренессансам, ни Италии, ибо: «Багаж древности в каждом торчит, как заноза старой мудрости, и забота о его целости – трата времени и смешна тому, кто в вихре ветров плывет за облаками в синем абажуре неба».
На слух трескучая риторика манифестов, сляпанных Малевичем по рецепту политических воззваний, звучала вполне революционно, поэтому в наступившей неразберихе Гражданской войны ему удалось «упругое тело пропеллера», что «с трудом вырывается из объятий старой Земли», взять под свой контроль и некоторое время упругим телом порулить. В статье «Каталога десятой Государственной выставки. Беспредметное творчество и супрематизм» Малевич заявил, что «плоскость, образовавшая квадрат, явилась родоначалом супрематизма, нового цветового реализма как беспредметного творчества», и провозгласил свой супрематизм высшей ступенью развития искусства. Заканчивается статья призывом: «Я прорвал синий абажур цветных ограничений, вышел в белое, за мной, товарищи авиаторы, плывите в бездну, я установил семафоры супрематизма». Призыв вскоре обернулся приказом: только что образованные рабоче-крестьянские Советы провозгласили себя высшей ступенью политической истории, так что естественно, что высшая форма государства и высшая форма искусства слились воедино. Цветовой реализм, как изящно стал Казимир Северинович именовать свой супрематизм, декларативно объявлялся не просто главным направлением среди других, но утверждался как единственно возможная форма творчества в живописи. Изображение реального объекта в новом беспредметном реализме полностью отменялось. Малевич решил своим «Черным квадратом», пользуясь его собственной терминологией, всех «покрыть». На короткое время ему это удалось.
Казимир Северинович сыграл важную роль в организации Музея художественной культуры (МХК), расположившегося в роскошном XVIII в. особняке Мятлевых на Исаакиевской площади, а затем возглавил и его, и Государственный институт художественной культуры (ГИНХУК), образованный на основе МХК. Свой ГИНХУК Малевич сравнивал с научно-исследовательским заведением, которое «проводит исследования на разных видах бактерий и эмбрионов, выясняя причину изменения поведения организма». Он напридумал множество различных отделов, занимавшихся научной исследовательско-изобретательской (термин взят из устава ГИНХУКа) работой. Среди них был образован даже недолго функционировавший фонологический отдел, обремененный изысканиями «в области звука, анализируя материальный состав его с целью наилучшего технически-индустриально-художественного применения. Звук подлежит исследованию в чистом виде, т. е. как явление физическое, а также в речевых и музыкальных своих проявлениях». В ГИНХУК Казимир Северинович перетащил своих соратников, раздав им посты заведующих, и уселся посреди всеобщего обожания как Будда, столь же величественный и прекрасный. Под его руководством институт начал работать над созданием всеобщей истории искусства, в основе которой лежала теория прибавочной стоимости, но особо далеко не продвинулся.
Итак, исследования искусства были поставлены на службу рабоче-крестьянскому государству. Служба означала паек. Параллельно в Москве при деятельном участии Луначарского в 1921 году была организована Государственная академия художественных наук (ГАХН), также имевшая своей целью «всестороннее исследование всех видов искусств и художественной культуры». ГАХН и ГИНХУК находились на госснабжении, спасая многих от голода, но московская академия была гораздо менее радикальна. Революционная власть, за которой ГАХН и ГИНХУК ухаживали, была еще молода и не решила, с кем быть. Ветры в мозгу свистели. Возглавил ГАХН Петр Семенович Коган, бывший приват-доцент кафедры германо-романской филологии Санкт-Петербургского университета, при старом режиме не получивший звания профессора из-за своего еврейского происхождения, несмотря на официально засвидетельствованный отказ от иудаизма и переход в православие. После революции он обрел желаемое профессорство, перебрался в Москву, под покровительством Луначарского достиг высокого поста, но при этом остался типичным старорежимным университетским интеллигентом, автором переводов Джона Рёскина и Ипполита Тэна. Типичный выбор Серебряного века. Среди вице-президентов ГАХН недолгое время был Кандинский, наш первый отечественный абстракционист, но он в силу своего адвокатского прошлого также был несравненно консервативнее удалого Малевича в своих вкусах и воззрениях.
ГИНХУК был связан с супрематизмом, ГАХН – с Ассоциацией художников революционной России (АХРР), возглавляемой Павлом Радимовым, весьма убогим пейзажистом и последним главой Товарищества передвижников. Реализм он понимал кондово, по-передвижнически и по-стасовски, без всяких там синих абажуров цветных ограничений и упругих пропеллеровых тел. Традиционалисты из АХРР сцепились с авангардистами в смертельной хватке за право считаться государственным искусством и победили. В войне за власть авангард полностью проиграл реализму радимовского розлива. В 1926 году ГИНХУК прикрыли, госснабженческие пайки закончились. Малевич и Филонов попробовали раскаяться и приспособиться и про беспредметность забыли, перейдя на фигуративность. Филонов даже написал портрет Сталина, но схватка была продута. Вскоре последовал полный разгром, и в тридцатые годы авангард и все, что с ним было связано, власть вычеркнула из истории советского искусства. Малевич с Филоновым стали голодать и превратились в мучеников.
Собственно говоря, анархистские призывы Малевича и ахинея ГИНХУКа были первыми шагами пролетарского искусствознания. Не то чтобы они заложили фундамент, но вырыли для него яму. Фундамент закладывали Луначарский и ГАХН, засыпав воронку авангардистского котлована культурным мусором. Чуть раньше, чем прикрыли ГИНХУК, в 1925 году, впервые было напечатано вступление к «Диалектике природы» Энгельса именно в том, бесконечно цитируемом виде, в каком оно повторяется и сейчас. Появился отрывок в книге, напечатанной параллельно на русском и немецком языках: Архив К. Маркса и Ф. Энгельса. Книга вторая / Институт Маркса – Энгельса – Ленина при ЦК ВКП (б). Под редакцией Д. Рязанова. – М.; Л.: Государственное издательство, 1925. До того вступление было практически неизвестно. Сколь напечатанный текст соответствует источнику – дело совести Института Маркса – Энгельса – Ленина при ЦК ВКП (б) и лично товарища Д. Рязанова, но именно в этой редакции слова основоположника стали столь же священны для истинного коммуниста, как строки Корана священны для истинного мусульманина, а строки Евангелия – для истинного христианина. Короче говоря, коммунизм, придя к власти, строки Энгельса отрыл, огранил, и засияли они в скипетре советской науки как бриллиант Куллинан.
Незаконченное вступление к «Диалектике природы» оказалось единственным искусствоведческим высказыванием марксизма-ленинизма. В этом блестяще написанном крошечном фрагменте размером в страницу Энгельс искусство упоминает мимоходом, а говорит и собирается дальше говорить о naturwissenschaftliche Revolution, «естественно-научной революции», под которой подразумевает период, когда «Духовная диктатура церкви была сломлена; германские народы в своем большинстве прямо сбросили ее и приняли протестантизм, между тем как у романских народов стало все более и более укореняться перешедшее от арабов и питавшееся новооткрытой греческой философией жизнерадостное свободомыслие, подготовившее материализм XVIII века». То есть в привычную периодизацию Античность – Средние века – Новое время он пытается ввести новую историческую эпоху, границы которой ему самому пока неясны и название неизвестно. Введение некоего до того неизвестного промежуточного периода Энгельсу понадобилось для того, чтобы