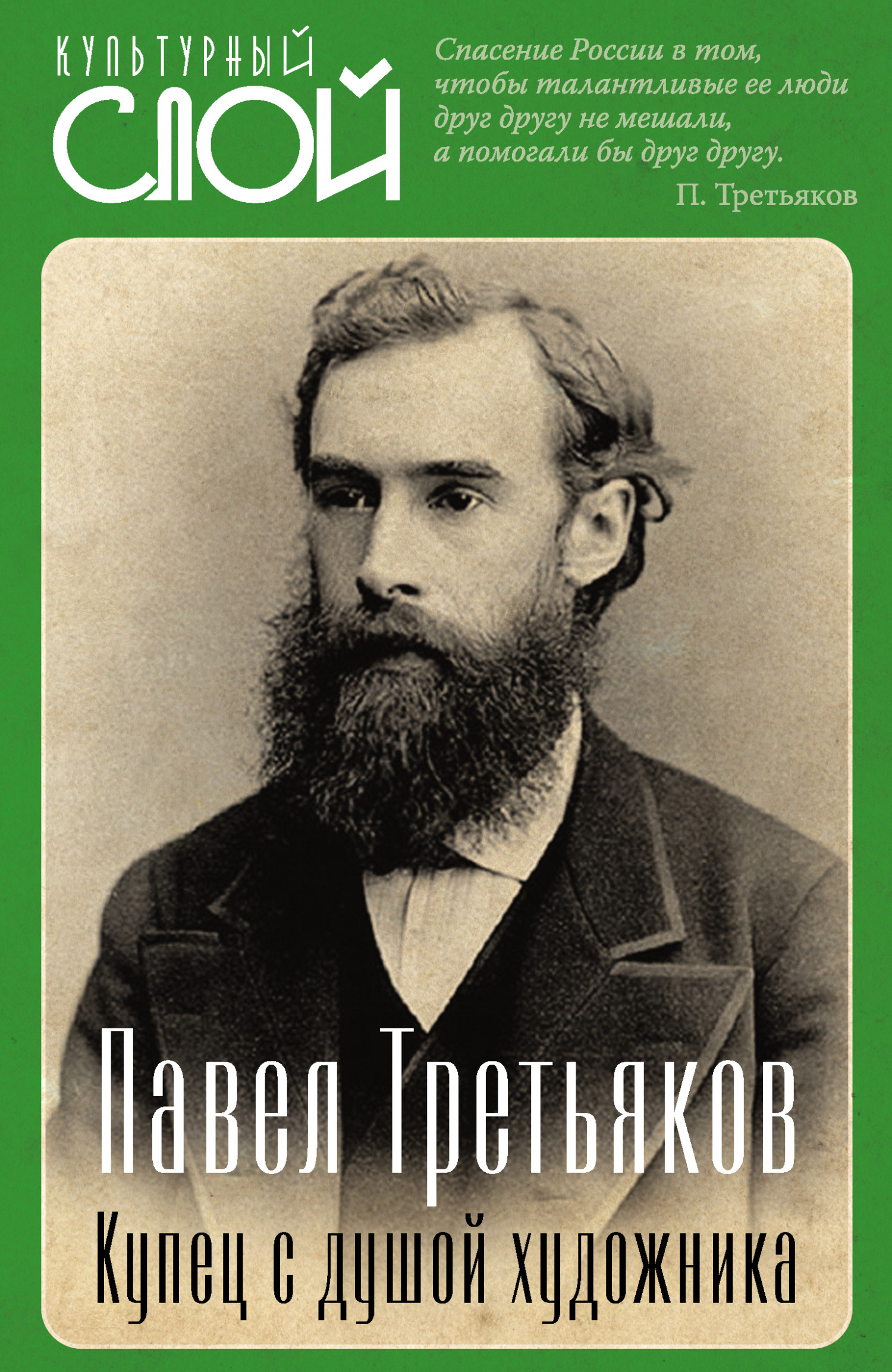входит, зная Леонардо, Микеланджело и Рафаэля да Дюрера, и еще, возможно, Тициана. Именно их он и подразумевает, говоря о невиданном и недостижимом расцвете. В своей табели о рангах Энгельс отнюдь не оригинален, идя на поводу у традиционного академизма, так что классическая же Греция с ренессансной Италией благодаря основоположнику марксизма-ленинизма получили в искусствоведении первого в мире рабоче-крестьянского государства режим наибольшего благоприятствования. Уже ко времени написания «Диалектики природы» подобная расстановка приоритетов безнадежно устарела, что уж говорить о XX веке, но ученых, вооруженных марксистско-ленинской методологией, не смутила ни ортодоксальность, ни недоделанность. Строители нового советского и марксистско-ленинского ренессансоведения текстик Энгельса сделали священным и вечным. Характеристика, полученная от одного из святой троицы коммунизма – кажется, в ней Энгельс, соответственно ангельской фамилии, исполняет роль Святого Духа при Марксе-Отце и Ленине-Сыне, – стала обязательной. О чем бы ни говорил советский исследователь, о Данте или о Джотто, о литературе или архитектуре, о Боттичелли или Макиавелли, в предисловие он обязан был вставить цитату про титанов. Зато она давала carte blanche на изучение итальянского Ренессанса. Основываясь на этом архаичном тесте, советское искусствоведение принялось строить свой, собственный Ренессанс, создававшийся в прямом противостоянии всему развитию Kunstwissenschaft, буржуазный.
В СССР прямых директив изобразительному искусству не было дано, но восторжествовали консервативные взгляды ГАХН с АХРР, пришедшиеся по вкусу новой бюрократии, становившейся все более серой. К концу двадцатых, окончательно разделавшись с модернизмом, советское искусствознание приняло некую устойчивую форму. Оно переняло схему развития искусства, идущую от Вазари, и благословленную Энгельсом классицистическую иерархию, несколько ее усовершенствовав. Энгельс до построения социализма в одной отдельно взятой стране не дожил, и, несмотря на божественность своего разума, все ж не мог знать, что именно в ней будет достигнута третья вершина, равная первым двум. Это, конечно, социалистический реализм, официально одобренное искусство первой страны рабочих и крестьян. Словосочетание, порожденное гением Максима Горького, главного пролетарского писателя, в 1932 году относилось к литературе, но тут же было взято на вооружение чиновниками, управлявшими всей надстройкой. Другого искусства в СССР не должно было быть, потому что социалистический реализм одобрялся с позиций марксизма-ленинизма, единственно верного, а потому и истинного учения. Социалистический реализм произрастал из прогрессивного критического реализма XIX века, но равнялся на указанные классиком марксизма две другие вершины, греческую классику и Ренессанс, a priori их превосходя. Так как социалистический реализм цвел в одном СССР, то советское искусство среди упадка и представляло новый Ренессанс, а передвижники становились своего рода проторенессансом. Остальное, лежащее между вершинами, представляло плоскость, покрытую бугорками, не имеющими особой значимости и подлежащими изучению лишь как второстепенные обстоятельства, сопутствующие пути восхождения в высоту. Тот, кто топтался на уводящих в сторону дорогах и тропинках, в барокко или готике, попадал в болото враждебной марксизму идеологии современного загнивающего капитализма. Зато Ренессанс превратился, как того и хотел Энгельс, в отдельную эпоху.
Ключевое слово в священном тексте Энгельса о Возрождении – «титаны», которые так ему были нужны и которых оно и породило. Красивое слово, величественное. Порождения земли, титаны – мифологический пролетариат, восставший против небесных богов. Низы не хотят. Смысл титанизма – борьба. Порожденные Возрождением титаны его же в борьбе и тревоге и построили, а строили они, как сказал Владимир Владимирович Маяковский, не мандолиня из-под стен:
«Тара-тина, тара-тина, т-эн-н…»,
но рвя громаду лет
«весомо,
грубо,
зримо»,
как водопровод. Вот.
* * *
Руководствуясь распоряжением не мандолинить, марксистские искусствоведы писали весомо и грубо. В двадцатые годы фундамент водопровода советского Ренессанса был заложен, в тридцатые начато его строительство, а в пятидесятые он уже был возведен. Тогда уже были напечатаны «История западноевропейского искусства. Краткий курс» Н. Н. Пунина и трехтомная «Всеобщая история искусств» М. В. Алпатова. Греческой классике и итальянскому Ренессансу в них было уделено больше внимания, чем чему-либо другому. Эти книги стали основополагающими учебниками по изучению истории искусства на русском языке, сформулировав в общих чертах характеристики всех главных европейских стилей и четко разработав систему приоритетов. Про Италию ничего принципиально нового ни Пунин, ни Алпатов не сказали, использовав старую схему. Зато путь к вершине Высокого Возрождения от «возродителей» – термин из лексикона алпатовской истории искусств – итальянской скульптуры Николо Пизано и Джованни Пизано через Джотто, Мазаччо, Брунеллески и Донателло к Леонардо, Микеланджело и Рафаэлю теперь был украшен «классовым антагонизмом трудящихся с феодальными силами и растущей мощью капитала». Вторая половина Кватроченто, за исключением Пьеро делла Франчески и отчасти Мантеньи с Беллини, была второсортна и особого внимания не заслуживала, поскольку у Боттичелли «чувствуется творческое утомление», а утомление мифологическому пролетариату не к лицу. Начало Чинквеченто марксистов радовало. Так как история есть столкновение интересов и противодействие классов, то и искусство высший смысл обретает в борьбе против чего-то, поэтому рассуждение Алпатова об «Афинской школе» сопровождалось чудным замечанием: «Наконец-то итальянское искусство Возрождения настолько созрело, чтобы противопоставить средневековому искусству свой образ мира». Как будто Рафаэлю делать было нечего, как только себя Средневековью противопоставлять и как будто на соседней стене нет фрески «Диспута» со всеми средневековыми авторитетами. Вторая же половина века, за исключением старых Микеланджело и Тициана и отчасти Тинторетто, была сплошным упадком. Не титаны. Советские исследователи вообще недолюбливали вторую половину, а конец так просто ненавидели в любом веке: это ж всегда – декаданс. В этом проявилось историческое чутье: конец XX века с СССР покончил.
С публикацией трехтомника Алпатова отношение к искусству прошлого получило окончательное оформление в марксистско-ленинском духе. Советский Ренессанс был отстроен, оставалось только его расширять и углублять, так что «Всеобщая история искусств» в шести томах, выпущенная Академией художеств СССР и Институтом теории и истории изобразительных искусств в 1956–1966 годах, ничего нового в него не внесла. Шеститомник стал ровесником оттепели, но писался он задолго до публикации. Этот слоноподобный титанический труд до сих пор остается самой внушительной историей искусства на русском языке. Все многочисленные истории мирового искусства как отечественные, так и переводные, вышедшие после перестройки, морские свинки в сравнении с ним. Как то пытался сделать Энгельс, но не сделал, Ренессанс четко был выделен в отдельную эпоху, растянутую уже не на полтора, а на три столетия, ибо советское искусствознание решило начинать его с Джотто, игнорируя его глубокую религиозность и сделав предтечей реализма, и противопоставлялся Средневековью, определяемому диктатурой церкви. Ренессансу во «Всеобщей истории искусств» был посвящен целый третий том, написанный разными авторами под общей редакцией Ю. Д. Колпинского и Е. И. Ротенберга. Он, соответственно,