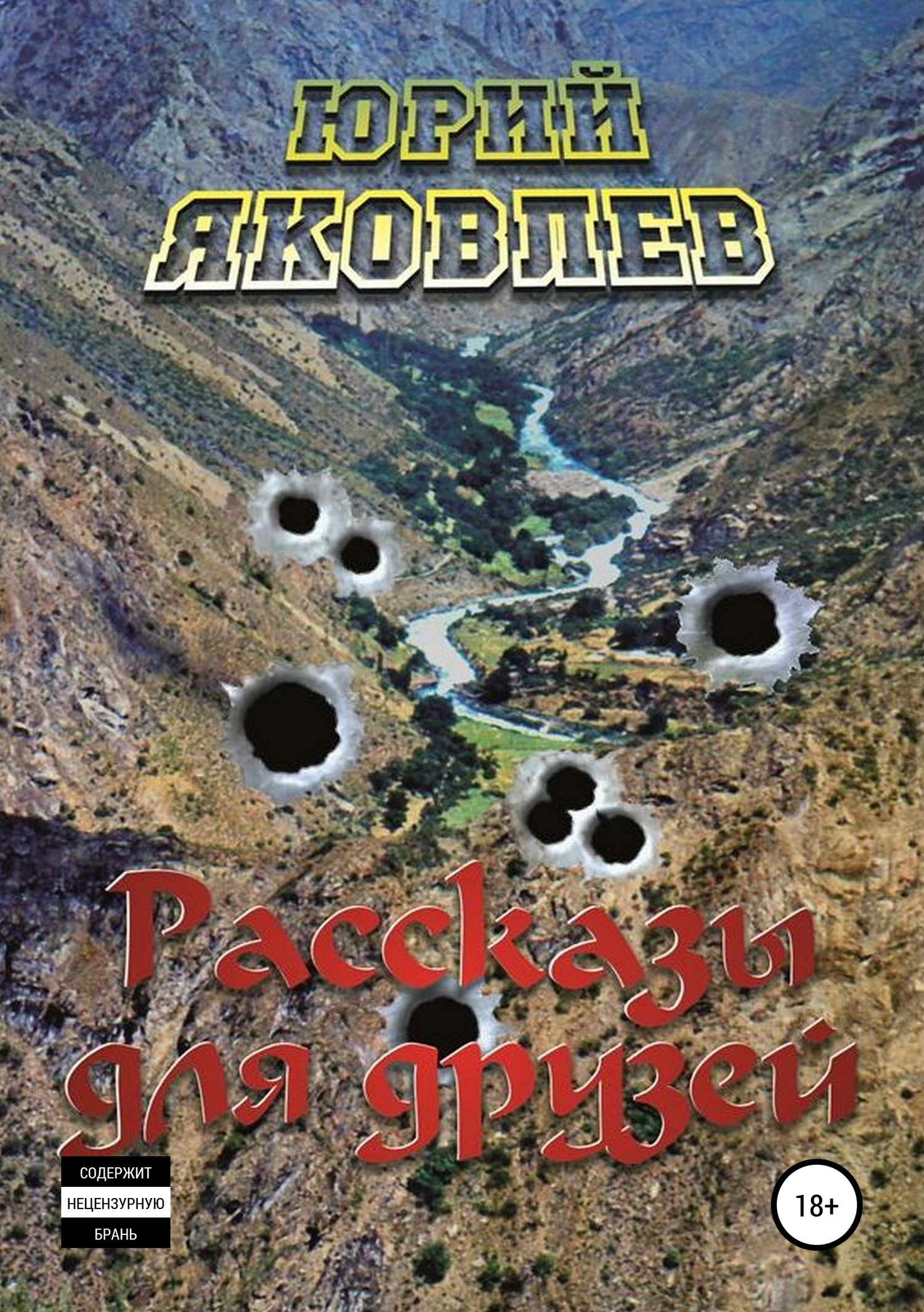оставайся, найдем общагу, устроим на работу, Ленку в школу, репетиторов, ей же скоро поступать, поступать, поступать… Мать отмахивалась – в поселке Изотоп, где они тогда жили, школа отличная, многие поступают в вузы Екатеринбурга и Новосибирска, и Ленка учится прилично.
Тетя не спорила, не возражала, как делала еще шесть лет назад, только поджимала губы и кидала взгляды на Лену. Лене казалось, что тетка ее жалеет. Но она всегда принимала в споре сторону матери – в самом деле, в школе им постоянно приводили в пример выпускников, которые поступили туда-то и сюда-то, работают там-то и сям-то, и все отлично устроились в жизни. Тогда неприятие их с мамой жизни только зарождалось, колыхалось темно-серыми волнами глубоко в сознании.
По утрам пили чай в зале за столом-книжкой. Женщины решали, что приготовить на обед и ужин. Мама, находившаяся в состоянии вечной войны с миром, была здесь, в этой квартире и родной семье, на своем месте. Лена видела, как разглаживались ее морщины, как вечно напряженная, недовольная мать становилась спокойной, и сама испытывала невероятное спокойствие.
Дядя Слава уходил на работу, а дяде Антону поручали «увести детей из дому, чтобы они не сходили с ума от безделья». Дядя каждый раз возмущался, но видно было, что возиться с подросшими общими пятью детьми ему нравилось. За неделю они покатались на коньках и на лыжах, сходили на сопку с телевышкой и сфоткались на фоне названия города, погуляли по замерзшему озеру, обошли пешком весь Кокчетав под рассказы дяди – он был инженером-планировщиком и мог рассказать о каждом здании, как оно спланировано и построено. Мама, тетя и жена дяди Антона весело проводили время: лепили пельмени, крутили манты и голубцы. Выпивать начинали с обеда, поэтому, когда «дети» возвращались, были уже добры и веселы. В ледяной городок ходили все вместе вечером, когда включали вечернее освещение. На площади стояло шесть елок: одна громадная – в центре и пять вдвое меньше – вокруг нее. Все были соединены гирляндами между собой, и получался елочный шатер.
В один из вечеров дядя Антон размяк и рассказал, что думает переехать, потому что непонятно, как сейчас жить, а в России, по словам уехавших, гораздо лучше и порядка больше. Дяде было жаль оставлять Караганду, в которой он прожил больше двадцати лет, но все знакомые толковые специалисты поразъехались. Мама фыркнула и сказала: однозначно переезжать. Тетя согласилась.
Тот Новый год был последним, который семья встретила в полном сборе. У Лены осталась фотография застолья тридцать первого декабря 1995-го. Стол, заставленный едой, за столом – нарядная родня: мама с еще не погасшим задором в глазах, тетя Света и жена дяди посередине, по обе стороны от них – дети и ближе к фотоаппарату – дядя Антон и муж тети, дядя Слава, он на фото – размытое привидение, потому что ставил фотоаппарат на автоспуск и не успел сесть. Сама Лена в новом, купленном перед поездкой (чтобы родня не подумала, что мать совсем уж нищенка) красном платье, уже не детском, по-взрослому улыбалась в камеру. Мама тоже в красном платье с декольте, на шею накинута мишура, на фото она дальше всех, и лицо нечеткое, зернами. За всеми – елка под потолок. Дядя вскоре переехал в Новосибирск, потом в Москву. Тетя прожила в Казахстане еще четыре года и переехала в Камышин.
Вернувшись после Нового года домой, Лена в кабинете географии нашла карту и внимательно рассмотрела расстояние до Германии. Германия на старой карте еще была разделена на ГДР и ФРГ. Лена запомнила место – «где-то под Ганновером». В масштабе планеты Костик был от нее не так уж далеко. Лена вспоминала его. Не часто, но все же возвращалась в казахстанское лето с беготней, с войной между домами и мышкой в капюшоне.
В Изотопе школу Лена не закончила. Мама работала секретарем на мясо-молочной базе, база закрылась, и им снова пришлось переехать.
Дольше всего они задержались в Эстонии, в Пярну. Там был Юрген. Он нравился Лене – высокий, вежливый, будто совсем без эмоций, не то что мама. Он красиво ухаживал за ними обеими – привозил цветы, водил гулять по набережной, угощал в кафе. Лене нравилось, что во всех кафе в городе его знали и заботились о них с удвоенной силой. Нравилось, что, гуляя втроем по набережной, они часто останавливались, чтобы поздороваться с его знакомыми, они восхищенно разглядывали маму, а Лене говорили, что она «куколка». Юрген прожил в Пярну всю жизнь, и этим он тоже нравился Лене, хоть она не понимала, как это – всегда жить в одном городе.
Лена с матерью переехали к нему в дом. У Лены впервые появилась своя комната. Она хотела остаться в этом сонном, спокойном городке. Лена была уже подростком и во второй раз после квартиры тетки поразилась нормальности дома Юргена. Их с матерью скитания уже не казались ей романтическими. Проигрыватель и пластинки превратились в устаревший хлам. Денег на магнитофон и кассеты не было. «Вояж-вояж» остался недостижимой мечтой.
Юрген познакомил их со своей семьей. Эстонские старички хорошо приняли невесту сына и ее дочку. Юрген, Лена и мать приезжали к ним на дачу. Старички с белоснежными волосами угощали их домашними пирогами и черным, сваренным на плите, настоящим кофе – не три в одном с орлом, который пили они с матерью. Лена называла их бабушкой и дедушкой, потому что так полагалось называть их по возрасту, но те, кажется, восприняли Лену взволнованно и всерьез. Дедушка водил Лену на рыбалку. Бабушка подарила коробочку для рукоделия. Повзрослев, Лена поняла, что симпатия милых старичков была, возможно, связана еще и с тем, что их сын, закоренелый холостяк в свои пятьдесят лет, наконец остепенился.
В дачном поселке был небольшой круг приезжих подростков, кучковались они вместе. Лене нравился москвич Максим, гостивший у своей бабушки. Флиртовать Лена не умела, мрачноватый Максим тоже. Они садились рядом, когда собирались на трубах за котельной и делали вид, что не замечают друг друга, но по мимике, по взглядам, которые бросал на нее Максим, когда они встречались в поселке, Лена понимала, что нравится ему, но не знала, что делать с этой взаимной симпатией. Впрочем, делать ничего не пришлось, потому что в конце августа они с матерью покинули Пярну.
Тем летом дело шло к свадьбе. Юрген купил кольца, предлагал матери выбрать платье, они втроем даже ходили в магазин «Счастье». Там маме вынесли несколько чудесных вариантов, но мама, прикинув к лицу парочку, отказалась их примерять. Настроение у нее испортилось, мать сказала, что уже слишком старая для платьев и где же Юрген был раньше.
Лену уже пристроили в гимназию благодаря хлопотам Юргена и его брата. В конце августа в дом к бабушке и дедушке съехались дети и внуки. Юрген, Тимо, Эдвин – сыновья с женами. Семейство было одинаково белобрысым, вежливым и словно примороженным. Внуков было двое. Они с восхищением смотрели на Ленины черные волосы и загорелую кожу. Мальчики и Лена были во дворе, когда за общим столом Юргену показалось, что мама слишком откровенно говорила с Тимо, и Юрген при всех дал ей пощечину. Так позже сказала мама, Лена ничего не видела. Возможно, что-то было на самом деле, и от этого озверел даже спокойный Юрген. Мама выскочила из дома и, схватив Лену за руку, потащила к выходу. В тот же день они собрали вещи и уехали перекантоваться к тетке – больше было некуда и не на что.
Месяц передышки у тетки – и снова покатилось: города и поселки, мужчины, поезда, автобусы. Лена легко это принимала и легко отпускала. Наивная детская любовь к Костику стала ее самым ярким и грустным воспоминанием, которое она хранила, как тетка хранила драгоценный хрусталь в стенке. Иногда в бесконечном мелькании Лене снилась первомайская демонстрация, гвоздики, черные от пыли колготки. Маяковский кидал камень в окно и кричал:
– Маем, маем размайся!
Мама умела проходить собеседования, договариваться, устраиваться. За тяжелую физическую работу не бралась, и до поры до времени ей везло. Мама по-прежнему следила за собой и могла поболтать с Леной о своем студенчестве, рассказывала она интересно, не скатываясь в лишние подробности. В такие минуты она понимала маминых работодателей – в разговоре та была так умна, так восхитительно добра, так многогранна, что