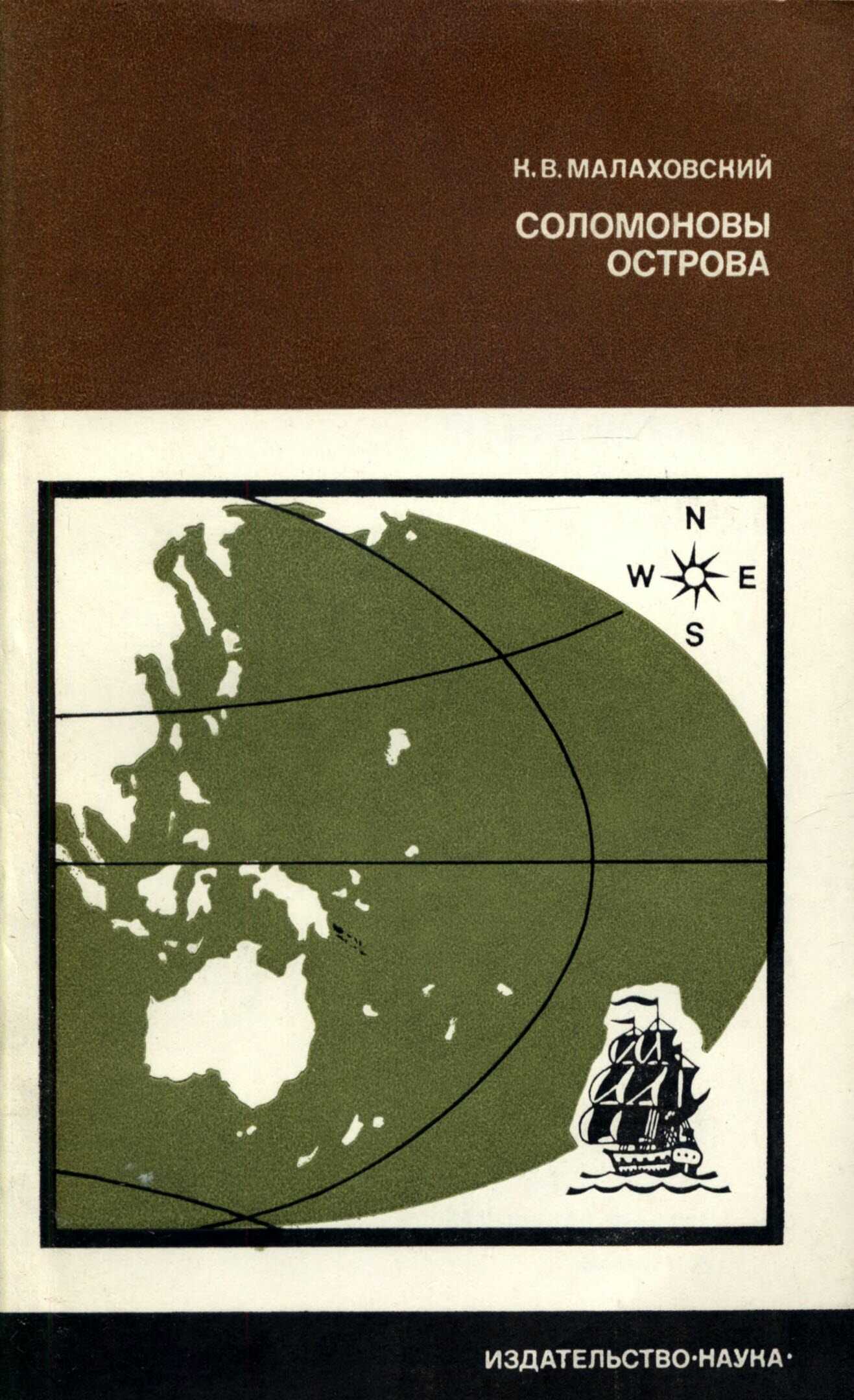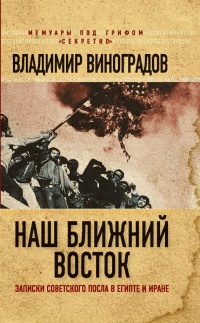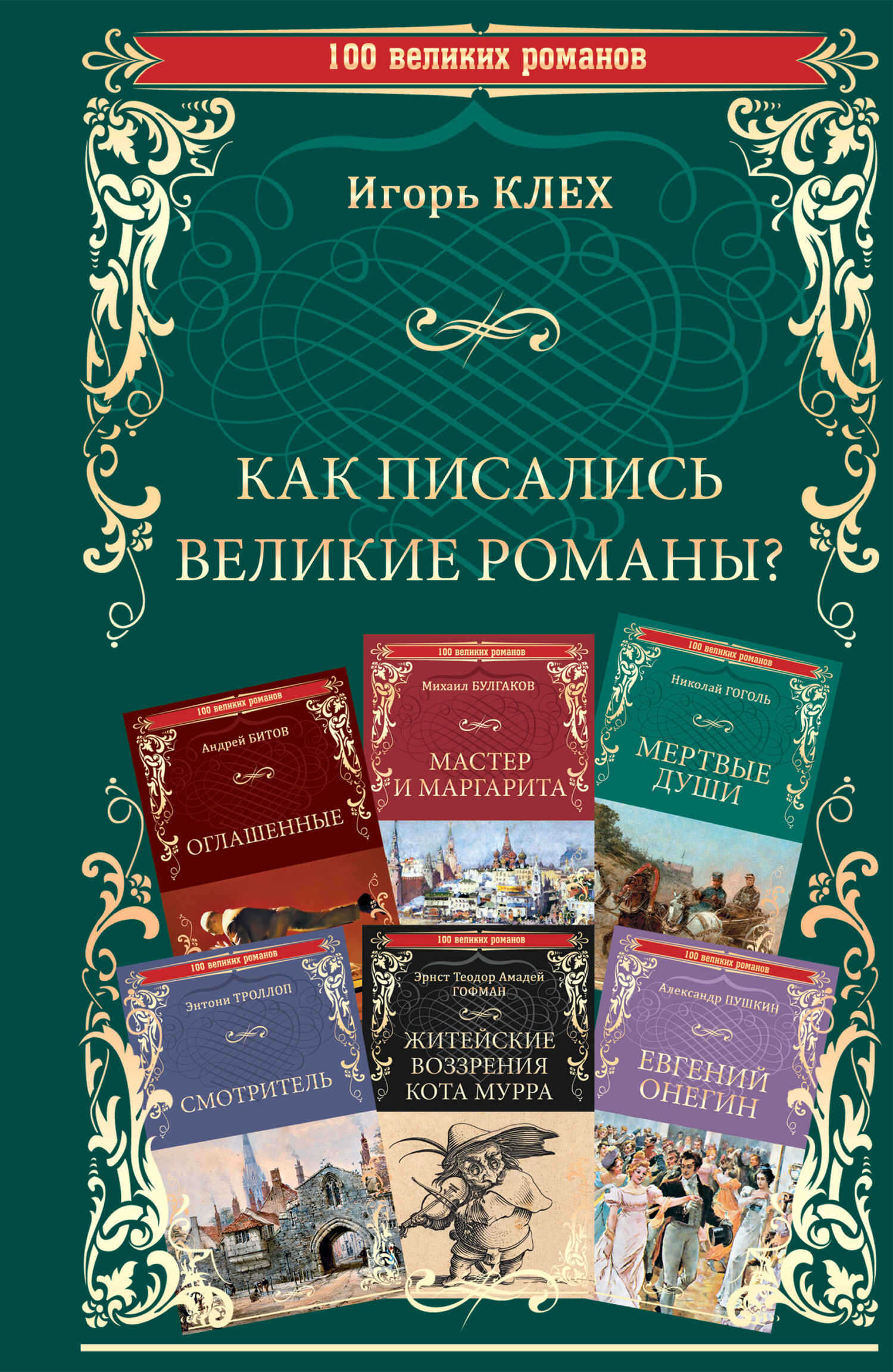И тогда в своих произведениях они начинают отождествлять себя с крутыми героями, парой слов переделывающими историю. И это касается не только непубликуемых «сетераторов».
То, что реальных интеллектуальных и бойцовских качеств у них, скорее всего, на такие свершения не хватит, нисколько их не волнует. Как и их читателей, в свою очередь, видящих в герое себя. Одним просто нравится такое писать, а другим читать. Так глубоко философский жанр фэнтези, каким он был в своем начале, при великом Толкиене и его коллегах-современниках, выродился в бесконечные и бессмысленные хороводы эльфов-орков-гномов, ублажающие инфантилизм писателей и читателей.
Но «мэрисьюшность» — лишь одна из сторон явления. Другая имеет более серьезные, я бы сказал, патриотические причины. Большинству авторов от 30 до 50, то есть, они застали старческое величие и грандиозный крах СССР, что произвело в них некоторую психологическую травму. Детство и юность их прошли во внешне стабильном, защищенном от катаклизмов обществе. По крайней мере, таковым оно сейчас видится сквозь дымку лет. А потом настал хаос перемен, и страна на глазах превратилась из сверхдержавы во второстепенное государство. Всё это породило ностальгию по СССР и горечь за историческую судьбу отчизны, а соответственно, желание каким-нибудь образом исправить положение. В реальности работать для этой цели тяжело и нудно, да большинство и не понимает, что для этого делать. Зато бумага (вернее, компьютер) стерпит все и позволит хоть как-то оформить обеду над супостатами прошлыми, нынешними и будущими, а заодно оказать величайший гений и прозорливость автора. Что и говорить, приятно быть умнее Петра I.
Не мной подмечено, что в западной фантастике крайне мало произведений, в которых такое историческое «прогрессорство» одобряется. Почему-то западные авторы твердо усвоили, что такое «эффект бабочки», когда малейшее действие может иметь глобальные последствия. Потому в западной фантастике на страже времени стоят суровые патрульные Пола Андерсона, да и не только его, хватающие за руку негодяев, посмевших покуситься на изменение истории. У нас же автор ничтоже сумняшеся засылает в XVII век группу современных ученых, снабженных всем необходимым для учинения промышленной революции, а заодно и взвод вооруженного автоматами и гранатометами спецназа — для охраны «прогрессоров». Какие хронопарадоксы за этим последуют, автора волнует меньше всего. Скорее всего, он и не понимает и того, что не обязательно Россия, ради которой все это вроде бы делается, от них выиграет.
В этом, разумеется, присутствуют симптомы нашей тяжкой болезни — тяги к безответственному социальному экспериментаторству, так дорого обошедшейся нашей стране. Но не только. В глубине там — постмодернистская идеология множественностей, пришедшая из восточной философии. Мысля категорией множественностей, признаешь сущим все возможное, а значит, нивелируешь реальность до степени одной из возможностей. Проще говоря, если миров много, ни один из них не есть настоящий. Майя. Иллюзия. Великая пустота.
Тут невольно закрадываются конспирологические мысли: а не поощряется ли разгул «попаданского» АИ некими темными силами? Ведь это очень эффективный способ окончательно разрушить в довольно большой части нашего общества память о подлинной истории, приучить к мысли, что истинны все «варианты» и «линии». Но, думаю, не стоит искать заговор там, где действует обычное недомыслие, помноженное на коллективный комплекс неполноценности.
Призрачный соблазн постмодернизма
Приближается церемония объявления победителя литературной премии «Супернацбест», на которую претендуют лауреаты премии «Национальный бестселлер» за последние 10 лет. Если взглянуть на список отмеченных премией произведений этих претендентов, можно увидеть, что большая часть из них так или иначе носит признаки постмодернизма (ПМ). А иные просто являются ПМ-текстами, как, например, «ДПП(nn)» Виктора Пелевина.
По всему видно, что ПМ становится устойчивым трендом современной русской литературы. Но говорить о ПМ применительно к литературе следует, лишь уяснив, что это не одно, а множество явлений. Это одновременно научная проблема, концепция, мироощущение, художественный стиль, социальный феномен и даже исторический период. При этом проблема темна, концепция невнятна, мироощущение депрессивно, стиль эклектичен, а период кризисный.
Английский историк Арнольд Тойнби рассматривал «век постмодернизма» как финал западной цивилизации, когда ее наступательный порыв иссякает. Обесцениваются традиционные понятия — нация, государство, гуманизм, в социуме нарастают беспомощность, беспокойство, иррационализм. Подвергаются сомнению некогда бесспорные истины — не только религиозные и философские, но и научные. Исследование заменяется «дискурсом», то есть говорильней. Искусство превращается в товар, но его плохо покупают, потому что оно вторично, эклектично, ничего не утверждает, часто даже лишается авторства, становится безликим. Поскольку «ничто не истинно», в идеологии торжествует «плюрализм мнений», в нравственности «толерантность», в политике — «мультикультурность». Сама история становится изменяемой и зыбкой.
— ПМ-метод «истории» — это чистой воды искусство, искусство деконструкции. Он предполагает, что история протекает не в результате закономерных процессов, а в контексте рассказа об исторических событиях, — говорит известный сетевой создатель ПМ-текстов, русскоязычный канадец, пишущий под псевдонимом Сфинкский.
Правильно: если истин много — истины нет. Философ Жан Бодрийяр вообще предложил слово «реальность» заменить термином «симулякр», обозначающим «вторичную», искусственную реальность. Все это напоминает описанное Львом Гумилевым «негативное мироощущение», распространенное в тяжелые периоды фазового перехода в развитии этносов. Это настойчивое желание «деконструировать» систему мирового порядка, доведя в конце концов до полного уничтожения, аннигиляции.
— В топологии и близких разделах математики точкой называют абстрактный объект в пространстве, не имеющий ни объёма, ни площади, ни длины, ни каких-либо других измеримых характеристик. Точкой называют нульмерный объект. Любая фигура считается состоящей из точек. История — тоже. Отсутствие формы сопровождается и отсутствием единого содержания, — подтверждает Сфинкский.
По Гумилеву, западноевропейская цивилизация находится в стадии перехода к депрессивной стадии этногенеза — обскурации. Мы моложе, но тоже переходим в иную фазу, правда, более оптимистичную, — инерции. Тяжелые времена обусловили принятие и на Западе, и у нас парадигмы ПМ, и, как следствие, привели к расцвету соответствующей литературы. Для нее характерны стирание граней между реальностью и вторичным миром произведения, обилие цитат и литературных аллюзий, прямые заимствования у предшественников, смешение стилей, отсутствие единой точки зрения, «авторского» взгляда, всепроникающая ирония и так далее. Но если судить по этим признакам, можно записать в ПМ хоть Мурасаки Сикибу, хоть Сервантеса. И это правильно: они тоже жили и творили в «эпохи перемен». В этом отношении японский период Хэйан с его эстетикой умирания или «Золотой век» испанской культуры под девизом «Жизнь есть сон» вполне можно отнести к постмодернистским.
Но ведь речь идет о гениях и корифеях, а ПМ, как мы установили, есть выморочная мода времен упадка. А кто сказал, что постмодернист не может быть гением?.. Просто следует разделять ПМ-мировосприятие и ПМ-метод. Писатель, запутавшийся во «множественностях», у которого, по выражению Кафки, вещи в голове «растут