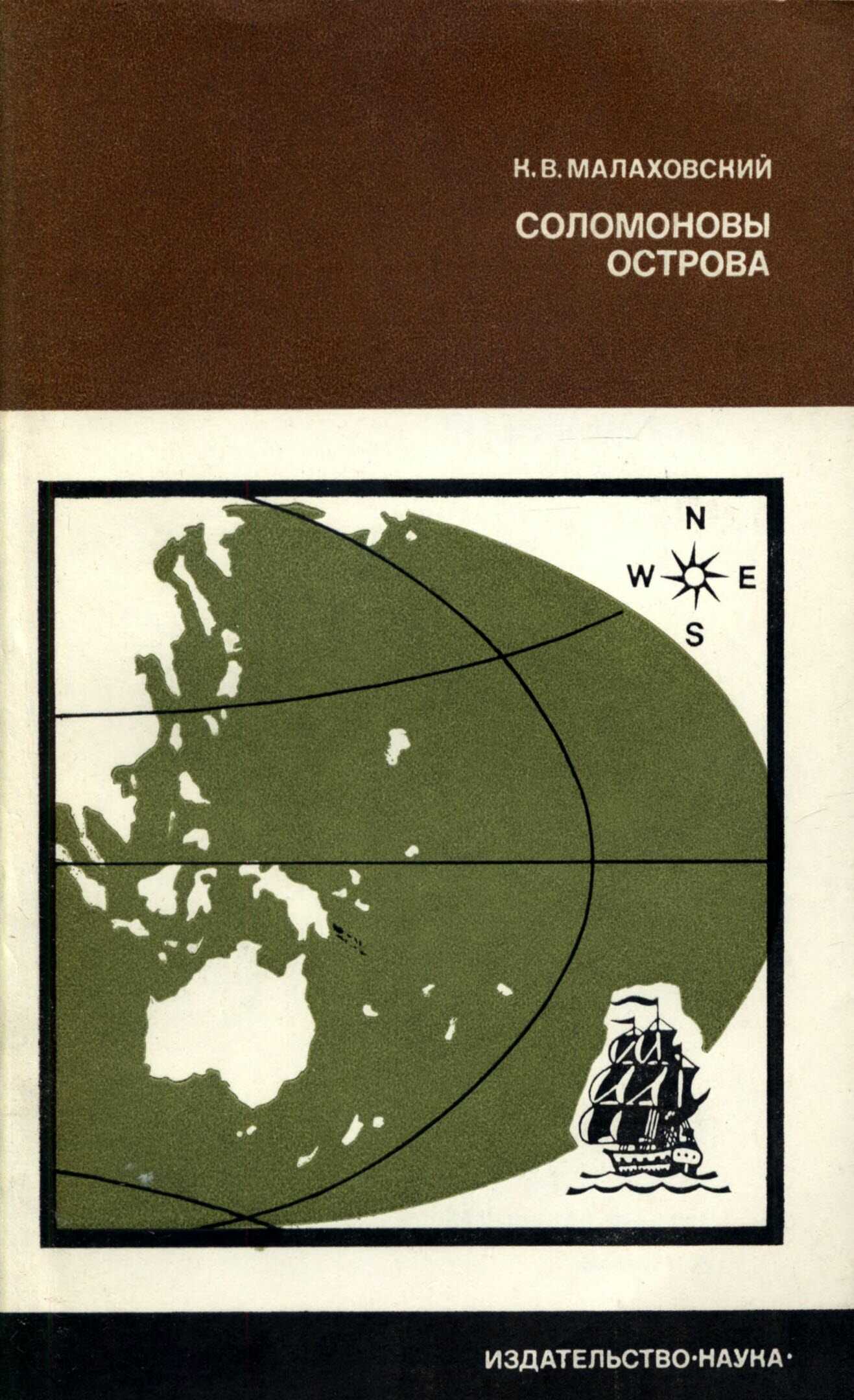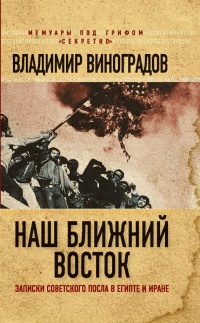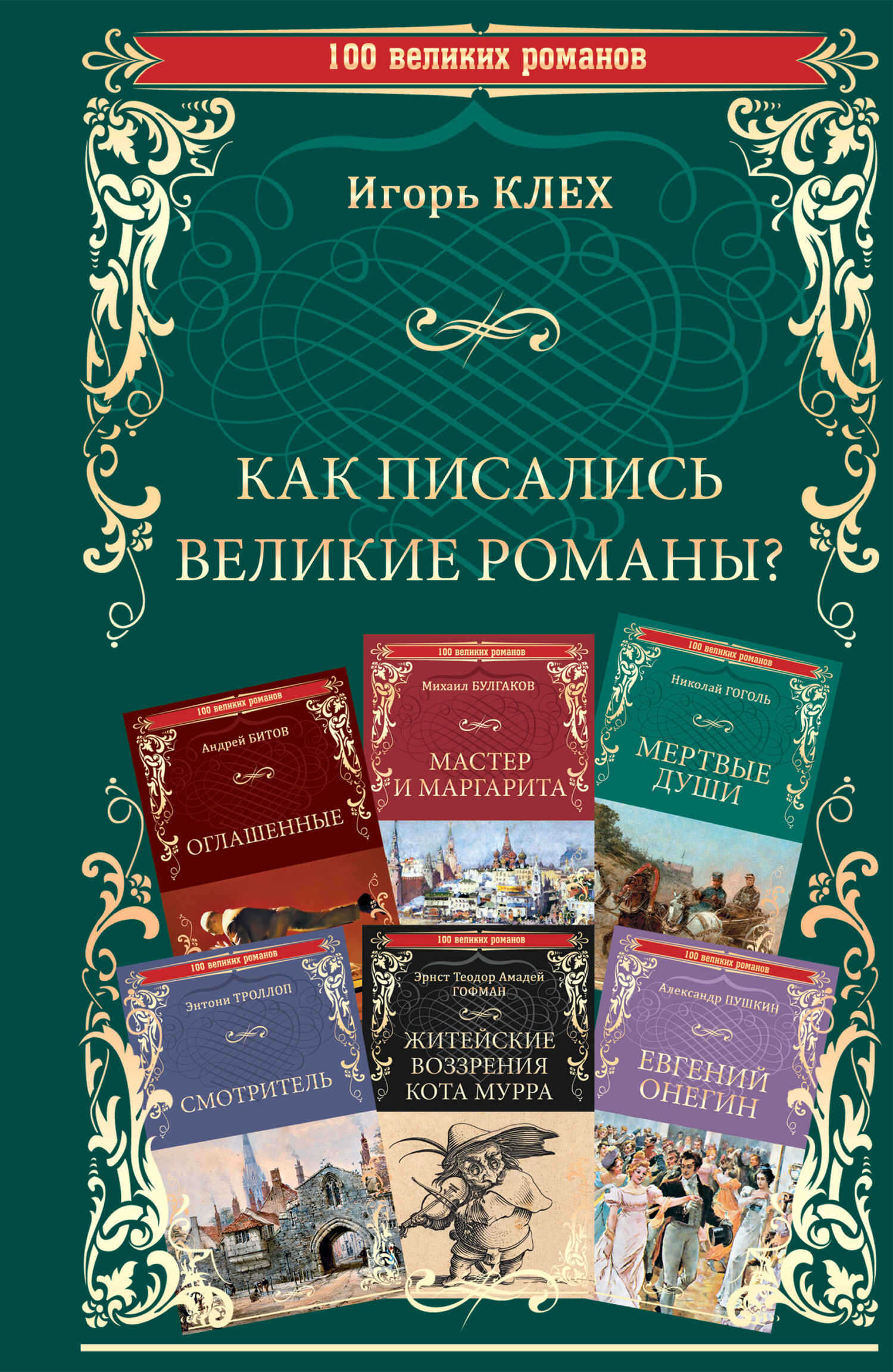не из корней своих, а откуда-то с середины», при всем своем таланте будет выдавать вполне бессмысленные тексты, поскольку смысл отметает в принципе. Но гений с позитивным настроем, пользуясь теми же методами, будет создавать произведения, внешне соотносимые с уклончивым лукавством ПМ, но они будут иметь цель и смысл, «расти от корней», стремясь к конечному единству и бытию, а не распылению и аннигиляции.
Мой друг-писатель как-то заметил, что считает ПМ всю литературную шушеру, расплодившуюся за последние годы. Я попытался его разубедить — литературному бурьяну не обязательно давать звучное имя. Просто многие любители пописать (ударение на третьем слоге), что-то услышав о ПМ, решили, что это когда можно писать все, что придет в голову, и ничего за это не будет. Вычитав у того же Виктора Пелевина, что вся современная культура является «диалектическим единством гламурного дискурсА и дискурсивного гламурА», они на глазок смешивают «дискурс» и «гламур», добавляют надерганных цитат из классиков, щедро заправляют варево порнографией и обсценной лексикой, вставляют эпатажный посыл и утверждают, что сочинили ПМ. По большей части они эксплуатируют не пост-, а именно модернистские жанры — сюрреализм, абсурд, поток сознания, уже перешедшие в разряд классического наследия.
Но метод ПМ можно применять и в контексте иных классических стилей. Потому признанными мастерами ПМ являются Умберто Эко и Джон Фаулз, Владимир Набоков и Михаил Булгаков. Разница тут, какая есть и всегда будет между писателями — в степени таланта и знаке мироощущения. А метод… Метод может быть и ПМ. Ведь времена не выбирают.
Литераторы, сетераторы и издатели
Литература уходит в Сеть
Словечко «сетература» я впервые услышал в середине девяностых. Коллега с упоением рассказывал об «известном сетевом литераторе Андрее Агафонове». Я тут же вспомнил не всегда трезвого очкарика, с которым вместе работал в крупной сибирской газете. Он был юн, преисполнен уверенности в собственной гениальности и действительно писал отличные тексты. Значит, теперь Андрюша — «известный сетератор»… Я прочитал в сети его трагический роман и удивился, что эту вещь никто не хочет публиковать. Потом удивляться перестал, а сетература на моих глазах расцветала махровым цветом.
Этот термин имеет несколько значений, но мы берем лишь одно — литературное творчество в интернете. Российский сегмент сети оказался для этого особенно подходящим. Потому что мощна у нас традиция самиздата, и многие творцы, помнящие еще, что ««Эрика» берет четыре копии», с комфортом пристроили свои творения на просторах интернета. Конечно, самиздат, что бумажный, что сетевой, — идеальное прибежище для орды бездарных графоманов с манией величия. На момент написания этой статьи на крупнейшем в Рунете ресурсе для самодеятельного творчества «Журнал «Самиздат» (СИ) были зарегистрированы 47 996 авторов. Пусть больше половины этих страниц — клоны, созданные с разными целями, но не могу представить, чтобы русскоязычная литература скрывала сегодня в своих недрах 20 тысяч не публикуемых писателей. А ведь такие ресурсы все множатся: «Проза ру», «Стихи ру», «Неизвестный гений», сообщества в блогосфере…
Разумеется, большая часть тамошних «пейсателей» никакие не писатели. Однако политика нынешних издательств, боящихся опубликовать «неформатный» текст, привлекает в сетературу множество талантливых авторов. Их произведения в Сети получают зачастую аудиторию больше, чем если бы вышли на бумаге. Они участвуют в сетевых конкурсах, уровень многих из которых весьма высок, и выигрывают их. Нередко они прорываются все-таки на книжный рынок, не оставляя тем не менее свои интернет-страницы.
С другой стороны, как реальный самиздат иногда привлекал официально публикуемых маститых литераторов, так же и виртуальный. Недаром знаменитый сетевой «библиотекарь» Максим Мошков (Lib.Ru) с какого-то момента переводил странички известных авторов на режим самообслуживания, то есть в тот же самиздат. Что привлекает мэтров в сети? Прежде всего то же, что и прочих сетераторов, — возможность практически мгновенно узнать, как читатели воспринимают произведение.
Вырисовывается схема совместного творчества, какая была на заре словесности у сказителей с их аудиторией. В сети первым ее опробовал американский писатель Дуглас Рашкофф, в 2002 году предложивший читателям составлять сноски к тексту романа «Стратегия исхода». А первый удачный российский писательский интернет-проект принадлежал Дмитрию Глуховскому, с помощью тысяч читателей создававшему культовый роман «Метро-2034». Теперь это распространенное явление. Например, Сергей Лукьяненко на страницах ЖЖ регулярно публикует главы из находящихся в работе вещей. Например, его роман «Ловец видений» обязан читателям блога и названием, и даже грамматическим лицом рассказчика. Писатель Дмитрий Володихин одно время вывешивал в своем журнале volodihin лирические отрывки, которые позже обернулись вышедшей «в бумаге» сказкой. И так делают очень многие, известные и начинающие, потому что это удобно и выгодно.
Но все-таки главное в сетературе — возможность публиковаться всем и безнадзорно. Впрочем, не надо думать, что жизнь сетератора так уж легка. «Это интернет, девочка, здесь и… послать могут». И часто посылают, невзирая на имя и количество вышедших книг. Приходится выносить и это, и многое другое.
— Сетератор должен практически непрерывно писать, вывешивать свои произведения в сети и обсуждать чужие. В традиционной литературе подобная активность обычно проходит по графе «графомания», но здесь это — просто норма выживания, — говорит писатель Владимир Винников и признается, что сам он в таком режиме смог выдержать всего четыре месяца.
Против
Пока люди не превратятся в «овощи», бумажная книга не исчезнет
Юрий Гаврюченков, редактор книжного издательства.
В 1990-е пришли свобода слова и технический прогресс, здравствуйте! Каждый грамотный человек получил возможность письменно выразить свое мнение в художественной форме и с удивительной легкостью его обнародовать. Так возникла сетература.
Но и читатель стал опытнее, искушеннее. Ему уже не интересны Александр Казанцев и Георгий Мартынов. Испившему из чаши Кастанеды, Паланика и Пелевина охота куда более тонкого яда, нежели пресное пойло советских мэтров. Ну и социально-экономическая ситуация вносит свои коррективы. Принеси сейчас в издательство бодрый лохматый очкарик «Страну багровых туч» (повесть братьев Стругацких. — Авт.), ее завернули бы, глянув на синопсис и начало текста. Очкарик бы расстроился и, вероятно, продолжил рассылку, а его увлеченный наукой брат только рукой махнул бы на фантастику и занялся делом: грант надо отрабатывать и по кредитам платить. В результате очкарик повесил бы текст на СИ и за три года получил свои пять тысяч скачиваний. Вполне сопоставимо с книжным тиражом. Бодрый очкарик стал бы дальше переводить американскую фантастику, по ходу общения с редакторами набираясь опыта и, уже будучи в тренде, сподвигая брата на новую книгу.
Сейчас редакторы отбирают из самотека в среднем одну книгу из ста. Не потому, что они злые и глупые, а потому, что