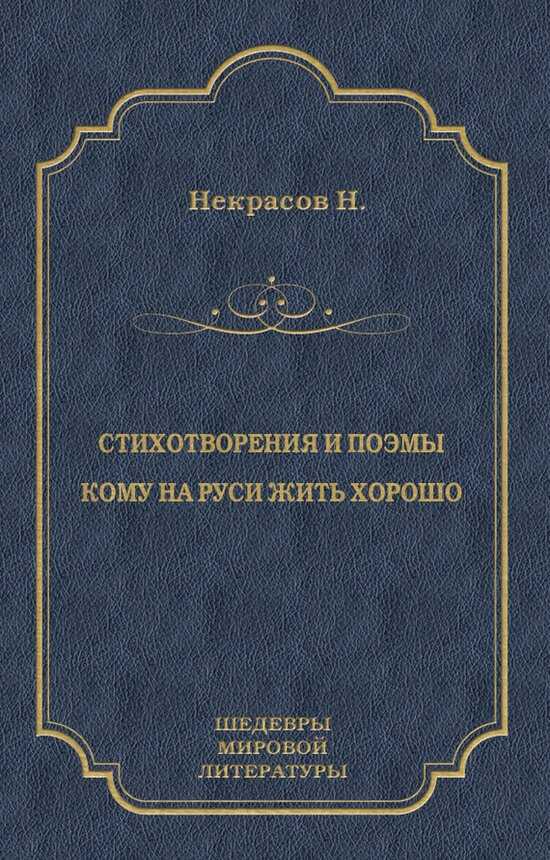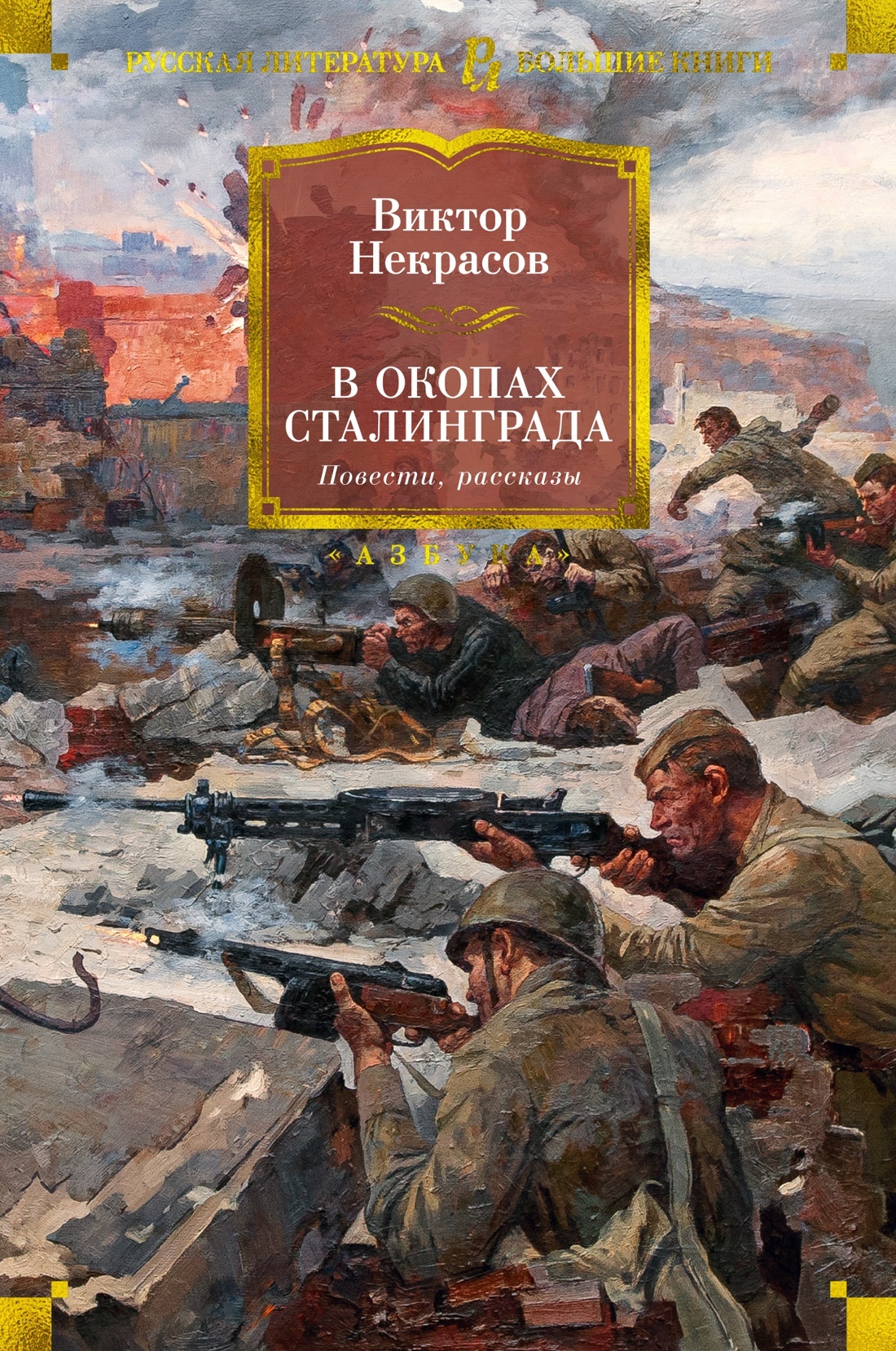качая головой и что-то горестно пришептывая.
Когда допил, его несколько успокоила мысль насчет того, что, если бы Афанасий завершил труд, книга стоила бы раз в десять дороже.
Вздохнув и утерев нечаянную слезу, он перекрестился, вернулся к началу и принялся за неспешное чтение.
Глава 3
Лемма
Я, грешный монах Николай, по милости Божией завершил составление этой книги 10 мая VII индикта 6502 года от сотворения мира. Рассказано в ней житие царя Дариана, славного язычника: и справедливое царствие его, и война с алаванами, и приключения его, и страдания, и падение Дарианского царства. А также то, как размышлял он о судьбе времени, и стал аскетом, и жил на утесе, а когда обратился в камень, руцей Божией был вознесен на небо. Я молю всех читателей помянуть меня, грешного монаха Николая, чтобы встретил я сострадание во дни Страшного суда. Рука писавшего сгниет в могиле, написанное останется на долгие годы.
1
Царь Дариан был царем Дарианского царства.
При рождении его нарекли Флатианом. Но с давних времен все цари Дарианского царства должны были носить имя Дариан – и при восхождении на престол он стал им.
Господь много ссудил ему от рождения: Дариан был высок ростом, статен, хорош собой, умен и во всем проницателен. В его характере довольно находилось как твердости, подобной алмазной грани, так и мягкости нежнее лебединого пуха, и он по мере надобности сочетал их, руководствуясь разумом, чтобы достичь своих целей.
Брови у него были не нависшие и не грозные, но и не вытянутые в прямую линию, а изогнутые, выдающие гордый нрав мужа. А синие глаза, не утопленные, как у людей коварных и хитрых, но и не выпуклые, как у людей распущенных и не способных совладать со своими желаниями, сияли мужественным блеском. Все его лицо было выточено, как идеальный, проведенный из центра круг, и соединялось с плечами крепкой и не чересчур длинной шеей. Грудь вперед слишком не выдавалась, но впалой и узкой также не была, а отличалась соразмерностью.
Пешего Дариана еще можно было с кем-то сопоставить, но когда он садился на коня, то представлял собой ни с чем не сравнимое зрелище: его статная фигура возвышалась в седле, будто статуя, высеченная из мрамора искусным ваятелем. Куда бы ни нес его конь – широким махом в гору или, горбясь и кидая задом, под уклон крутого ущелья, – царь Дариан держался в седле твердо и прямо.
Глядя на него, всякий понимал, что перед ним замечательный воин, и так оно и было: с тех пор как ему исполнилось семнадцать, царь Дариан отважно и умело сражался почти в двух десятках турниров, и какими бы ни были правила схваток – на копьях, на мечах или врукопашную, – он из каждой выходил чистым победителем.
Хорош он был и в главном храме своей столицы, городе Дараш, когда, окруженный жрецами и музыкантами, осенял своим присутствием службу, посвященную Богу Единому и Вечному, девятьсот девяносто девять имен которого покрывали огромный купол столь изощренной вязью письмен, что тот, кто не был силен в дарианской грамоте, искренне полагал, что это всего лишь причудливые узоры, призванные решить некоторую задачу исключительно орнаментального, а не духовного характера.
Но наиболее внушительно и грозно выглядел царь Дариан, когда сидел на своем царственном троне. Трон стоял на возвышении, к которому вели широкие ступени, в особом обширном зале, называемом Зеленым, ибо и стены его, и пол, и сводчатые потолки были облицованы пластинами благородного берилла.
Еще дед Дариана измыслил сделать Зеленый зал таким, чтобы всякий, в него вошедший, чувствовал трепет и смирение, отец продолжил, а сам Дариан завершил начатое. Призванные из Индии маги соорудили хитроумную систему зеркал. Свет в них плыл, и слоился, и мерцал, и то почти совсем гас, то вспыхивал ярче. Стоявший поодаль видел царя, но так, словно тот принадлежал не к земному, а к небесному пространству – полупрозрачному, изломанному, дымчатому, зыбкому, в котором его гигантская фигура на золотом троне выглядела не только загадочно, но и пугающе.
При этом три серебряных органа наполняли зал чудной музыкой, перед ступенями трона два золоченых льва били хвостами, издавая грозный рык и разевая пасти, а справа и слева от них механические птицы на серебряных деревьях распускали крылья, чтобы приветствовать царя радостными трелями.
Вдобавок, когда иноземные послы, и без того ошеломленные увиденным, делали положенные пять шагов по направлению к императору, чтобы пасть ниц у его ног, царь Дариан, к их окончательному изумлению, вместе с троном торжественно взмывал ввысь и парил в небесах, оставляя их в неколебимом убеждении, что он имеет не человеческую, а божественную природу.
При окончании церемонии послы получали дары, по ценности своей баснословные в их родных пределах, а когда в положенный срок покидали царство, разносили весть о силе и могуществе Дариана по всему свету.
У Дариана был младший брат по имени Тротиан. Казалось, он явился на свет от других отца и матери. Все, что было в Дариане прямо, в Тротиане кривилось, что в царе казалось тяжелым, в брате его выглядело легковесным, а что у Дариана вызывало печаль, Тротиана только веселило, заставляя заливаться визгливым смехом.
Когда пришел срок их вдовствующей матери переселиться в иные пределы, она, призвав к себе Дариана, сказала, что волнуется о его судьбе, ей страшно оставлять его одного в земном мире. И велела ему умертвить своего брата Тротиана, ибо, хоть и мучительно ей будет узнать перед собственной смертью о гибели младшего сына, драгоценного плода ее утробы, но все же Дариан ей дороже, и она хочет оградить его от грядущих несчастий, в ином случае неминуемых.
Дариана ошеломило ее повеление. Он, разумеется, отдавал себе отчет в том, что брат его Тротиан хоть и совсем не пригоден к тому, чтобы когда-нибудь сделаться царем, но все же денно и нощно думает об этом, строит соответствующие планы, придумывает разнообразные козни – и мечтает о смерти Дариана как о высшем счастье. По здравом размышлении веление матери не показалось ему слишком странным.
Однако, с другой стороны, это был его брат, единоутробный брат, и некая нежная пуповина продолжала связывать их души. Дариан всегда понимал Тротиана – причем, может быть, понимал лучше, чем тот когда-нибудь мог понять самого себя. И планы его, и козни были Дариану прозрачны и ясны. Поэтому он даже не уделял им особого внимания, он разрушал их, можно сказать, машинально: