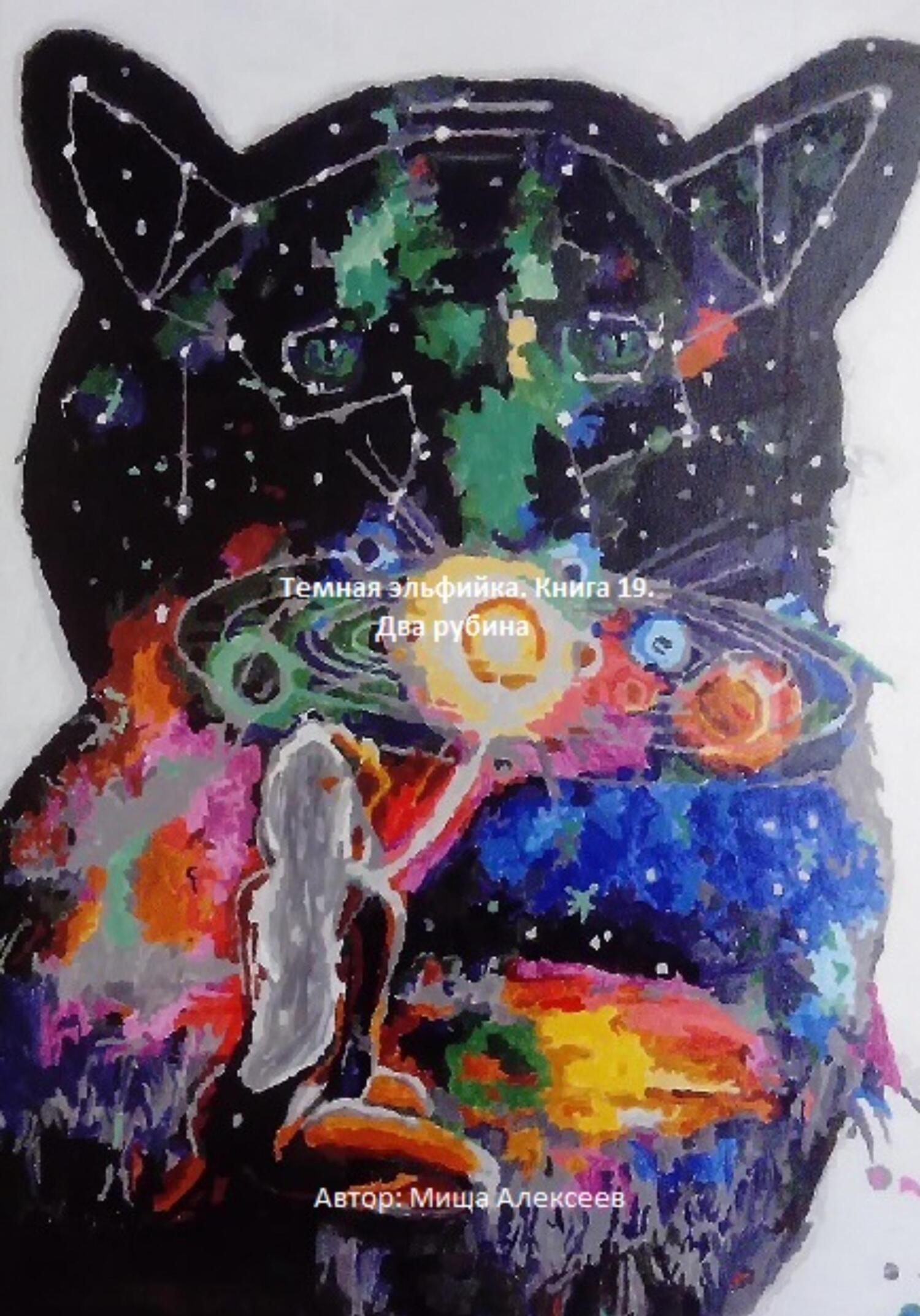Инструмент мой — старый ножик, которым стряпухи из квашни тесто вынимают, да топор, наточенный на бруске, а тут надо в кажинной части по две дырки просверлить, чтоб все связать воедино. Думал, думал и надумал. Взял железную кочергу, расправил ее и стал на огне калить докрасна. Бился долгонько, но работенку осилил. Потом отрезал от берестяного пестрика веревки, продел их в отверстия, закрепил концы узелками — и чоботы готовы. Приладил к ногам, по избушке раз-другой прошелся, вроде как бы и ничего, сносно, но… как ни шаг, то сильный скрип. Скрипят шальные! Догадался… Отрезал кусок сала, что дал мне сосед Вася Мочалов, смазал места соединений всех трех кусочков, снова надел чоботы — перестали петь. Вот как дело то сделалось!
Никита осмотрел свою одежонку и, убедившись, что она высохла, стал одеваться. При этом продолжал свой рассказ:
— В таких чоботах я проохотился две недели. Кажинный день по утрам натирал чоботы жиром, сам кусочка не съел. Ноги свои тоже сальцем потчевал, а потом портянкой обматывал и так целыми днями по лесным ухабам бродил. Было в таких чоботах, хотя и тяжко, но не очень-то зябко. Поохотился я нехудо. Целую ношу пушнины домой приволок. Сдал ту пушнину в только что организованный кооператив и получил за нее деньги. За те деньги купил в хозяйство сивую кобылу у попа, нетель у соседа. Ну, думаю, топеря и пожениться можно.
— Женился? — улыбаясь спросил Анучин.
— Женился, только не сразу, а попосля, как в колхоз вступил. В жены Полину, тоже колхозную девушку, взял. Жизнь гладко побежала. А об истории с чоботами я вам рассказал потому, что в жизни всякое может случиться. Жизнь — она штука сложная, ее в оглобли не впрягешь. Коль будет трудно, пой песни и никогда не склоняй головы. Держись! Ну вот и все. Будьте здоровы! И счастливого вам пути!
Никита ушел, и нам сразу стало скучно, да так, что даже чаю не захотелось пить. Мы перекурили и стали спускаться к реке, чтобы по берегу отправиться в путь-дорогу дальнюю.
Осушив траву от росы, солнце встало над лесом и по голубому океану поплыло светлым челноком с востока на запад.
Было ясно, что денек будет вёдренный. Едва мы пересекли березовую райку, как услышали девичью припевку:
Поиграй повеселее,
Я потопаю ногой.
У меня отбили милого,
Пойду на перебой.
На нее откликнулся задорный мужской голос:
Хвастать, милая, не стану,
Знаю сам, что говорю.
С неба звездочку достану
И на память подарю.
Мы не видели того, кто собирался достать звездочку и подарить ее на память милой. Нас разделяло взгорье с легкой лиственной растительностью. Поднявшись на него, мы огляделись вокруг. Впереди раскинулась деревня Ильинцы. От нее тянулись пахотные поля, которые сменялись заливными лугами, где стрекотали сенокосилки, а парни и девушки, перебрасываясь частушками, убирали сено.
Спустившись со взгорья, мы пошли дальше езжей дорогой и вскоре достигли Куржекской поймы.
4
Вода в Сараже все время куда-то спешит, словно боится опоздать в гости к Куржексе. В месте слияния рек — омут; жмется вода к берегам, лижет их, оставляя свои следы.
Мы долго сидели на сером камне, любуясь величавыми лесными массивами с обеих сторон. Сосны и ели низко клонились, отражаясь в воде широкими кронами. И всюду камень, камень и камень…
Старожилы этих мест утверждали, что река прошла здесь по каменистой гряде, простирающейся по-всему Заонежью на многие, многие километры.
По Куржексе сплавляли лес в Самино. Волочили по бревнышку через громадины камней да отказались. Теперь сюда наведываются только заядлые рыболовы.
— Что там дальше, за поворотом? — спросил я Анучина.
— Там я не бывал. Те лесные массивы к Карелии относятся. Но люди говорят, что туда сам леший не осмелится ступить: нога в трясину уйдет.
Над нашими головами прошумел вертолет, направляясь вверх по течению реки Куржексы. Демьяныч с удовлетворением заметил:
— Геологи к месту работы полетели.
Он поднялся с камня, и мы снова двинулись в путь. Вода меж камней билась, шумела, квокала тетерками, звенела колокольчиками.
Мы уже прошли более трех километров, когда Анучин остановился и снял рюкзак.
— Ты покури пока, — предложил он, — а я леску с наживкой покидаю. Может, какая шальная рыбина и клюнет.
Я примостился на каменной глыбе и стал наблюдать за Демьянычем, а он не торопясь размотал леску, наживил на крючок дождевого червя толщиной с мой палец и опустил его в воду.
Солнышко уже давненько перевалило за полдень, а до ночлега оставалось не больше двух километров. Эту ночь мы решили провести у дива-дивного, сотворенного неграмотными мужиками четырнадцатого века, — у водяной мельницы. Как пояснил мне Анучин, это чудо творения рук, топора и пилы двуручной.
Демьяныч выудил форель на полкилограмма, причмокнул:
— Добрая будет уха, наваристая…
Леса снова полетела в омуток между камней. И снова мы с каким-то внутренним восторгом ждали поклева, понимая, что ловим не ерша, не плотву или окуня, а благородную рыбицу форель.
Но вечер приближался, и терпение наше иссякло.
— Пойдем, Григорич, к ночлегу, — принялся сматывать удочки Анучин.
В густой траве заговорил коростель. Запел, защелкал ночной соловушка. Зычно ухнул филин. По деревьям скользнул последний луч заката. С земли забила теплая испарина, сгущая запахи медуницы и иван-чая в медок-солодок. Над рекой поднялся легкий туман и стал расползаться, скрадывая берега.
Наконец мы добрались до водяной мельницы. Когда-то она принадлежала куржевчанам, а теперь стояла на берегу реки, покинутая и заброшенная. Но и сейчас было видно, что мастерили ее умные руки. Каждое бревнышко было приделано так, что комар носа не подточит. Но странное дело… вода большой Куржексы пробегала мимо мельницы, не попадая на главное колесо, а с шумом и звоном скатывалась с плотины в большой омут.
Мельница была поставлена в низине, подле речного перебора и, спрятавшись в густой заросли, посматривала из-под тесовой крыши на смеющийся водопад, на березовую и осиновую поросль. Задняя часть мельницы с одним окошком, прорубленным под крышей, была обращена на заливной луг, и прямо в окошко струился мелкий, но проворный ручеек.
Я вошел внутрь мельницы, и десятка два рыжих крыс встретили меня, разбегаясь кто куда. Стены были обсыпаны мукой, напоминающей изморозь в холодную январскую ночь. Мукомольные жернова поднимались под крышу. Я понял, что один жернов молол рожь на муку, а другой, чуть поменьше, дробил овес и ячмень на крупу. И еще один жернов, сплошь окованный железом с насечкой в несколько рядов, по всей вероятности, выделывал