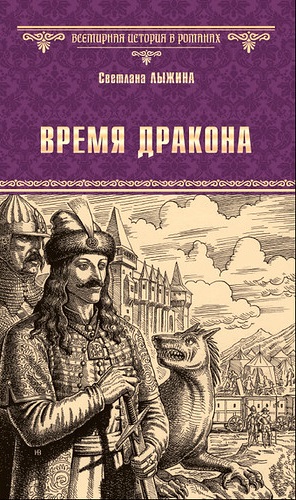Трансильванию немцев собирательно называли саксонцами, поскольку Саксония служила переселенцам местом сбора для дальнейшего пути на восток. В сущности, переселенцы шли не только из самой Саксонии, но и из Рейнланда, долины Мозеля, из Брауншвейга, Вестфалии и Люксембурга. Большинство селились в Южной или Северной Трансильвании и строили там мощно укрепленные города — по сути, это были привилегированные самоуправляющиеся общины, пользовавшиеся огромным влиянием в народном собрании Трансильвании (Congregatio), которое созывалось трансильванским воеводой или венгерским королем. Трансильванские саксонцы были официально признаны отдельной «нацией», хотя и под верховной властью воевод Трансильвании. Такого же рода привилегии были дарованы и менее численным секеям (о чьих азиатских корнях упоминалось выше). Как и саксонцы, секеи были католиками, а католицизм являлся единственным установленным в Трансильвании вероисповеданием. Укрепленные саксонские города управлялись избираемыми бургомистром и городским советом, которые были до известной степени независимы и сохраняли лояльность своим родным местам в Германии, с которыми их связывали сентиментальные чувства, а также религиозные и культурные узы. И вследствие этого трансильванские саксонцы были склонны поддерживать интересы правивших Австрией Габсбургов. В сущности, каждый саксонский город проводил самостоятельную внешнюю политику, и она не всегда совпадала с политикой венгерского короля или воеводы Трансильвании. И пока на венгерском престоле сидел представитель династии Габсбургов Ладислас V Постум, проблем с лояльностью саксонских городов не возникало. После его смерти в 1458 г. большинство саксонских городов Трансильвании предпочли обратить свою преданность на другого Габсбурга — императора Священной Римской империи Фридриха III, в котором видели «родственную кровь», нежели взять сторону клана Хуньяди, который считали пришлым.
Мы уже упоминали эти саксонские города под их румынскими именами, хотя в те времена в обиходе были их немецкие названия. Наибольшее значение имели Брашов, самый крупный из саксонских городов Трансильвании, затем шли Сибиу, родина Дракулы Сигишоара, Себеш и Бистрица, чьи окрестности выбрал местом действия своего романа незабвенный Б. Стокер. Население этих городов численностью от 4000 до 10 000 жителей придерживалось традиционных немецких ценностей, к коим относились: усердный труд, бережливость и хозяйственность. Города производили множество разнообразных товаров, предназначавшихся не только для местного потребления, а сами производители по средневековому обычаю объединялись в профессиональные гильдии. Трудившиеся в городах мясники, сапожники, портные, часовщики, золотых дел мастера, ювелиры, ткачи и шелкоделы, отливщики и скобянщики гордились качеством своей работы, высокие стандарты которой славились по всей Восточной Европе. Они умели угодить изысканным вкусам богатой верхушки общества. Как уже отмечалось, одна ремесленная отрасль особенно привлекала интерес высших военачальников, включая турецкого султана, — эти города производили огнестрельное оружие из плотной стали или бронзы. Широкую известность в этом деле приобрели литейные цеха Брашова, где отливали бомбарды, и пороховые мастерские Сибиу — саксонских оружейников Трансильвании определенно можно назвать Круппами XV в., сведущими во всех новшествах в производстве оружия. Обогащению саксонских городов также немало способствовала дарованная им венгерской короной монополия на разработку богатых золотосодержащих, серебряных и медных руд, которые со времен Античности добывались в Трансильванских Альпах.
При таком высоком развитии местной промышленности и при связях с бывшей родиной для саксонских городов было естественно присоединиться к необычайно прибыльной торговле между Западом и Востоком. В целом торговые потоки шли в двух разных направлениях. Северный маршрут саксонских товаров начинался из Бистрицы — в Гамбург, Данциг и еще в десятка два германских портов на балтийском побережье, которые вместе с другими вольными торговыми городами Северной и Западной Европы уже давно состояли в ассоциации, именовавшейся Ганзейским союзом, или просто Ганзой. Другой, намного более масштабный, торговый поток исходил из Брашова и Сибиу и следовал на юг через один из двух трансильванских перевалов, Турну-Рошу или Бран. На своем пути купцы Брашова и Сибиу проезжали главные города Валахии — Кымпулунгу, Тырговиште, Тыргушор, далее следовали в порты Брэилу и Килию в дунайских гирлах, оттуда морем в Константинополь и дальше на Восток. Из Валахии саксонские города ввозили зерно, лен, коноплю, лошадей и других сельскохозяйственных животных. На обратном пути трансильванские купцы везли через Валахию импортные товары — пряности, всевозможные дорогие и редкие восточные изделия и пр. Баланс в торговле неизменно склонялся в сторону саксонских городов, и положительное сальдо оседало в их сундуках венецианской или флорентийской монетой, которые считались предпочтительной валютой.
Торговля саксонских городов с Валахией сосредоточивалась в выделенных для этого городах, например Тырговиште и Тыргушоре, где проводились крупные ярмарки, на которых саксонские купцы выставляли свои товары. Эти города саксонцы использовали также как перевалочные пункты для транзитных товаров, следовавших дальше на юг. Что касается фискальной политики, то продававшиеся в Валахии саксонские товары по старинному торговому обычаю подлежали обложению импортной пошлиной установленного размера; за товары, следовавшие за пределы страны, саксонские купцы платили экспортную пошлину. Валахия потому и ограничивала внешнюю торговлю всего несколькими городами, что это позволяло господарю держать под контролем приток иноземных товаров и оберегать валашских купцов, чтобы иноземные торговцы не наживались за их счет. Сбор экспортной и импортной пошлин приносил Валахии несомненные выгоды и в том числе наполнял казну средствами для оплаты наемников, требовавшихся для комплектации армии. Сбор пошлин также способствовал процветанию рыночных городов.
В завершение нашей краткой характеристики саксонцев, расселившихся на приграничных рубежах европейской цивилизации, отметим, что могущественный Тевтонский рыцарский орден, сыгравший едва ли не ключевую роль в распространении цивилизации и христианства среди славянских народов, построивший цепочку неприступных крепостей от Балтики до Карпат, в описываемом нами XV в. играл в Трансильвании значительно меньшую роль. Могущественные тевтонские крепости, например Бран, на протяжении XIII в. защищавший Брашов, перешли к самим саксонским городам, для защиты которых они предназначались. Во времена Дракулы Тевтонский орден потерял былые мощь и престиж после тяжелого разгрома от поляков при Танненберге, а венгерские короли, убедившиеся в чрезмерных претензиях ордена, перестали доверять ему. Так что заботы тевтонцев сводились к защите одного только Северинского Баната в юго-западной части Трансильвании, огибаемой Дунаем и заходившей на территорию современной Югославии, где они командовали несколькими важными фортами.
Дела, связывавшие Дракулу с Трансильванией, относились главным образом к областям, густо заселенным потомками саксонских переселенцев. В первую очередь — к области вокруг Брашова, упоминавшейся в старинных грамотах на немецкий манер как Бурценланд (ныне Цара Бырсей), где располагались несколько городков и множество деревень пестрого этнического состава. Другая представлявшая интерес для Дракулы область носила более германизированный характер и располагалась в окрестностях города Сибиу. Эберхард Виндеке, биограф императора Сигизмунда, именовал ее Зибенбурген (Siebenburgen, т. е. семь крепостей/городов, или Семиградье), каковым названием немцы и по сей день обозначают всю Трансильванию. И Цара Бырсей, и Семиградье находились в пределах княжеств Амлаш и Фэгэраш, традиционных владений валашских господарей в самой Трансильвании. Поскольку в них проживало население смешанной этнической принадлежности, они оставались источником вечных раздоров с венгерскими королями, предпочитавшими не вспоминать, что