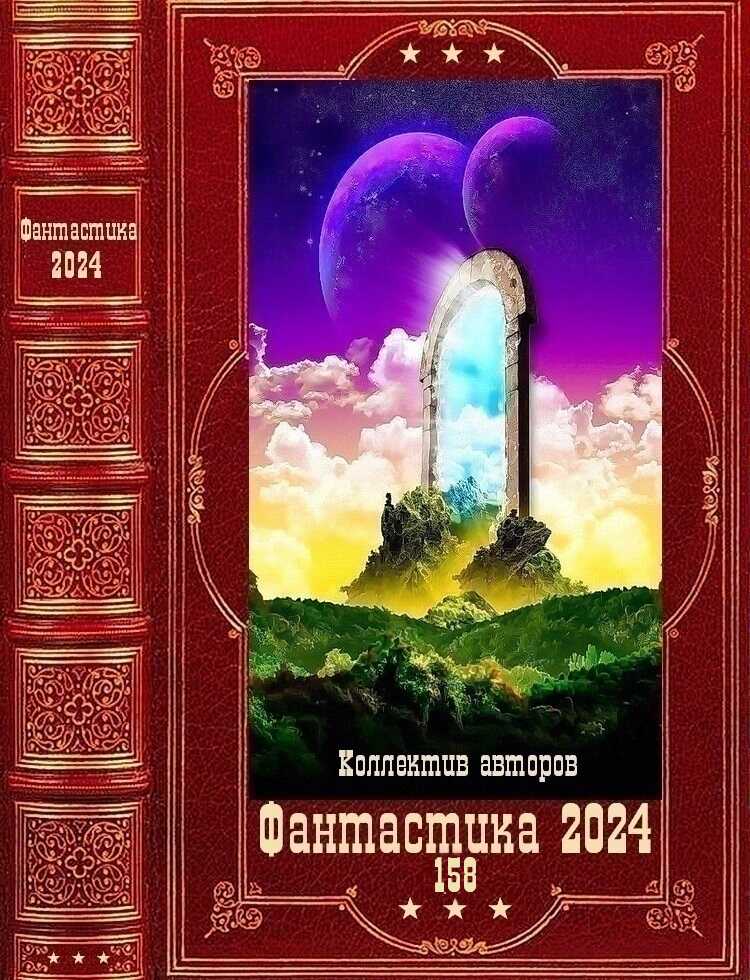дыхания мужчин, ни молитв, ни слов благодарности, ни стонов, ни обетов.
Только в глазах его еще теплилась жизнь. И эти глаза, словно лишенные век, неотрывно смотрели на крышу Собора.
Мария добралась до фигуры в белом шелку, скорченной в желобе меж колокольней и крышей храма. Подползла на коленях, протягивая руки, слепая от горя:
– Фредер… Фредер…
С яростным рыком хищного зверя Ротванг ринулся к ней, схватил. Девушка с криком защищалась. Он зажал ей рот, с выражением отчаянного непонимания глядя в ее залитое слезами лицо.
– Хель… моя Хель… почему ты отталкиваешь меня?
Железными руками Ротванг держал ее как добычу, которую больше никогда и никому не отдаст. У самой стены колокольни наверх, на ее крышу, вела лестница. Не выпуская девушку, он со звериным ворчанием несправедливо преследуемого полез вверх по ступенькам.
Вот такую картину увидел Фредер, когда очнулся от полубеспамятства и открыл глаза. Встав, он бросился к лестнице. Полез наверх, торопливо, вслепую, но уверенно – от страха за любимую. Догнал Ротванга; тот выпустил Марию. Девушка не удержалась на ногах, упала. Однако в падении сумела за что-то ухватиться, подтянулась и выбралась на золотой полумесяц, где стояла увенчанная звездами дева. Мария уже протягивала руку Фредеру, но в этот миг сверху на юношу кинулся Ротванг, и, сцепившись, оба скатились по крыше Собора и грохнулись на узкий парапет галереи.
Из глубины хрипло грянул испуганный вопль толпы. Ни Ротванг, ни Фредер его не слышали. Со страшным проклятием Ротванг приподнялся. Прямо над ним, на синем фоне неба, отчетливо виднелась дьявольская морда гаргульи. Она ухмылялась ему в лицо, издевательски высунув длинный язык. Ротванг встал и двинул кулаком по отвратительной морде…
Морда разлетелась на куски…
От мощного удара он потерял равновесие – и сорвался вниз, но повис на одной руке, вцепившись в готический декор Собора.
А глянув вверх, в бесконечную синеву утреннего неба, увидел лицо Хель, своей любимой, похожее на лик прекрасного ангела смерти, оно улыбалось ему и хотело губами коснуться его чела.
Огромные черные крылья распахнулись – им достанет сил унести в небеса утраченный мир.
– Хель… – сказал он. – Моя Хель… наконец-то…
Пальцы его разжались сами собой…
Иох Фредерсен не видел падения, не слышал крика отпрянувшей массы. Он видел лишь одно: сияющего белизной человека. Выпрямившись во весь рост, невредимый, он спокойным шагом бесстрашных шел по крыше Собора, с девушкой на руках.
И тогда Иох Фредерсен склонился долу, коснувшись лбом мостовой Соборной площади. Те, что стояли поблизости, услышали рыдания, хлынувшие из его груди, словно родник из скалы.
Когда же он опустил руки, все стоявшие рядом увидели, что волосы Иоха Фредерсена побелели как снег.
XXIII
– Любимая! – позвал Фредер, сын Иоха Фредерсена.
Тихий, самый осторожный зов, на какой только способен голос человека. Но Мария не ответила, как не ответила и на отчаянный крик, каким юноша, который любил ее, пытался привести ее в чувство.
Она лежала на ступенях главного алтаря, тоненькая, неподвижная, голова на локте Фредера, руки в ладони Фредера, и мягкое сияние церковных окон озаряло ее белое как снег лицо и белые как снег руки. Сердце билось медленно, едва внятно. Она не дышала. Лежала, погруженная в пучину изнеможения, откуда ее не мог вызволить ни крик, ни заклинание, ни зов отчаяния. Она походила на мертвую.
На плечо Фредера легла рука.
Он повернул голову. Увидел лицо отца.
Неужели это его отец? Иох Фредерсен, владыка великого Метрополиса? Разве у его отца такие белые волосы? И такой изборожденный му́кой лоб? И такие истерзанные страданием глаза?
Неужели после ночи безумия в этом мире остались только ужас, и смерть, и уничтожение, и му́ка – без конца?
– Что тебе здесь нужно? – спросил Фредер, сын Иоха Фредерсена. – Хочешь отнять ее у меня? Надеешься разлучить ее и меня? Вздумал пожертвовать ею и мной ради какого-то великого замысла?
– С кем ты говоришь, Фредер? – очень мягко спросил его отец.
Фредер не ответил. Широко открыв глаза, он обвел взглядом все вокруг, ведь доселе он не слышал такого голоса. Он молчал.
– Если ты говоришь о Иохе Фредерсене, – продолжил очень мягкий голос, – то позволь рассказать тебе, что нынешней ночью Иох Фредерсен умер, причем умер семикратно…
Исполненный муки взгляд Фредера встретился со взглядом, устремленным на него. Некое подобие рыдания слетело с губ.
– Ах, Боже мой… Отец! Отец… ты…
Иох Фредерсен наклонился к нему и к девушке, лежавшей у Фредера на коленях.
– Она умирает, отец… Разве ты не видишь, она умирает?!
Иох Фредерсен покачал головой.
– Нет-нет! – мягко сказал он. – Нет, Фредер… Однажды в жизни я, как ты, стоял на коленях, держа в объятиях любимую женщину. Но она вправду умерла. Я хорошо помню признаки ухода из жизни. Знаю их наперечет и никогда не забуду… Девушка просто спит. Не буди ее специально.
И его рука с невыразимой нежностью скользнула с плеча Фредера на волосы спящей.
– Любимое дитя! – сказал он. – Любимое дитя…
Из глубин сна ему ответила сладостность улыбки, перед которой он склонился, как перед откровением не от мира сего. Затем он оставил сына и девушку, зашагал по Собору, где от разноцветных полос солнечных лучей стало хорошо и по-домашнему уютно.
Фредер смотрел ему вслед, пока взгляд не затуманился. И вдруг в страстном порыве со стоном приподнял голову девушки и поцеловал ее в губы так, будто желал от этого умереть. Ведь чудо сотканного в полосы света подарило ему, обрушило на него осознание, что ночь миновала, настал день, над миром свершился извечный, ничем не нарушаемый переход от тьмы к свету, величавый и благодатный.
– Очнись, Мария, любимая! – молил он, осыпая ее ласками и нежностью. – Приди ко мне, любимая! Приди ко мне!
Ощутив в ответ тихое биение ее сердца, ее дыхание, он рассмеялся, и страсть его шепота замерла у нее на губах.
Иох Фредерсен еще услышал смех сына. Он был почти у притвора, остановился, посмотрел по сторонам, увидел снопы колонн, в изящных нишах которых, укрытые балдахинами, с кроткими улыбками стояли святые жены и мужи.
«Вы страдали, – думал его грезящий мозг. – И избавлены от страдания. Умерли блаженной смертью… Стоит ли страдать? Да, стоит».
И он шагнул к выходу из Собора, ноги по-прежнему слушались плохо, он ощупью отворил тяжелую створку, вышел наружу и стоял теперь, ослепнув от света и шатаясь, словно пьяный.
Ведь пил он вино страдания, и было оно ох какое тяжелое, и хмельное, и огненно-горячее.
И меж тем как он пошатываясь шагал, душа его твердила:
«Пойду домой и отыщу мать».
XXIV
– Фредер?.. – тихо сказала Мария.
– Да, любимая! Говори со мной! Говори!
– Где мы?
– В Соборе.
– Сейчас день или ночь?
– День.
– Не твой ли отец вот только что был здесь, подле нас?
– Да, любимая.
– Его рука лежала на моих волосах?
– Ты чувствовала?
– Ах, Фредер, пока твой отец был здесь, мне казалось, я слышу плеск источника в скале. Источника с водою, горькой от соли и красной от крови. Но я знала: если источнику достанет силы пробить скалу, он будет